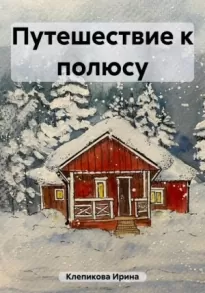Ссыльный № 33
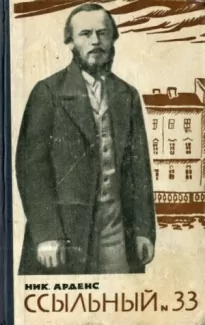
- Автор: Николай Арденс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Ссыльный № 33"
В госпитальной палате
Он медленно приходил в себя.
В палате, где он лежал, было два невысоких окна с ржавыми и запыленными решетками, и мимо окон непрерывно ходили люди. Это развлекало Федора Михайловича. Его радовало всякое движение и какая-то жизнь вне его. Он воображал и себя стоящим где-то на земле и оглядывающим окружающие валы крепости и длинный и серый частокол с прожилинами. Земля под его ногами мягкая и теплая. С детским любопытством он вдавливает в нее широкие каблуки и любовно смотрит на каждую травинку и на дорожки крепостного двора, ласково извивающиеся между Омскими и Иртышскими, Тарскими и Крепостными воротами, между казармами, сараями и церковью.
Федору Михайловичу стало как-то необычно хорошо. В палате нет непрерывного и стучащего говора, который так досаждает в казарме. Тут только раздается изредка стон больного, смешанный с полязгиванием кандалов, да застучит посуда. Тут мягкие сенники и даже подушки и одеяла, а днем всегда дают овсянку. Добродушный фельдшер Александр Степаныч подойдет и весьма почтительно посмотрит на тебя, — прямо как на человека, — с таким озабоченным видом и с таким доверчивым чувством, что уж от одного этого станет светлее в глазах и готов простить всех своих недругов. А то вдруг пройдет мимо тебя молодая и субтильная сиделка и с этакой маркизской игривостью бросит в тебя полвзгляда, так что даже и поблагодарить не сочтешь возможным, — потому уж таким недостойным червяком почувствуешь себя перед нею…
Что и говорить, от этих больничных порядков веет каким-то иным воздухом, — потому-то с таким восторгом и надеждой ждешь минуты, когда медицина протянет тебе руку спасенья. Федор Михайлович слушает, как бьется у него сердце. Оно стучит ужасно громко и быстро. Но во всем теле такая мягкость, словно всего истолкли в мелкий-премелкий порошок. Хочется лежать совершенно неподвижно и думать о чем-то успокоительном и бесконечном. Хочется забыть, что у тебя под одеялом неснимаемые кандалы.
В палату пришел Александр Степаныч. Он стал у двери и всех оглядел. В руках держит что-то завернутое в газетную бумагу. Надвинул на нос очки и пошел вдоль коек, словно кого-то выискивал. Нашел. Подсел к Федору Михайловичу на табуретке и с любопытством рассматривает.
— Так это вы и будете тот самый сочинитель? — спрашивает он, неловко улыбаясь и шевеля усами. — Я для вас тут приберег занятную-с историю. Уж ждал-ждал, когда-то вам выйдет звезда. Вот и вышла она, и дождался я… вот-с… — Он развернул бумагу и показал принесенную книгу. — «Отечественные записки», — сказал он полушепотом, таинственно передавая в руки Федору Михайловичу разрезанный номер. — Тут-с напечатано преуморительное сочиненьице — «Замогильные записки Пиквикского клуба» аглицкого сочинителя Диккенса. Нет-с, вы представьте себе только: «Замогильные записки»-с… — Александр Степаныч рассмеялся и при этом, боясь нарушить больничную тишину, закрыл рот рукой.
Федор Михайлович приподнялся так, что под ним хрустнула солома в сеннике и вздрогнули кандалы. Он набросил на себя толстый суконный халат, лежавший тут же, на койке.
— Вы… значит… знаете меня? — спросил он вкрадчивым и обрадованным голосом.
— Слыхал, слыхал, как же-с…
— Хорошо… Хорошо-то как… Уж не знаю, как и благодарить-то вас.
— Да не стоит благодарности… Рад послужить…
— Так эту книжку можно почитать? Я уж никому не покажу, никому.
— Держите при себе. Потому — запрещают у нас.
Александр Степаныч боязливо посмотрел на противоположную дверь с-железным болтом, выходившую в коридор: за ней стоял караульный унтер-офицер с тесаком, и на его обязанности было запирать на ночь арестантские палаты.
Федор Михайлович сунул книжку под сенник, где у него хранился кисет с табаком, кремень и огниво. Он совсем не ждал такого удивительного посещения. Фельдшер, совершенно незнакомый человек, вдруг сам подошел, сам заговорил и как? — точно с сыном родным. Утешил и словом и взглядом. Одним движением души пробудил.
— Хорошо. Хорошо-то как, Александр Степаныч! Уж не знаю, не нахожу слов, чтоб высказать вам чрезвычайную благодарность свою и любовь…
Александр Степаныч широко улыбнулся и встал с намерением идти дальше.
— Так вы говорите, мне звезда вышла такая?.. — переспросил еще Федор Михайлович, любопытствуя и в счастливом предчувствии.
— Звезда! Доподлинно знаю. И стоит она, звезда, над самым вашим изголовьем, и свет ее освещает вас.
— Ах, хорошо! Хорошо-то оно как выходит!
— Прощайте-с… друг сердешный, — Александр Степаныч нежно-нежно посмотрел на Федора Михайловича и пошел к другим больным. Так он обошел всю палату и вышел в соседнюю комнату, где находился приемный покой и делали перевязки и операции.
Федор Михайлович долго провожал глазами удалявшуюся сутуловатую фигуру фельдшера и его седеющий затылок.
— Экой милый человек! — думалось ему. — Ведь вот нашлася и тут, в этом смраде, достойная душа.
Новые впечатления: госпитальная палата для решенных арестантов и подсудимых, удушливый запах, зеленые деревянные койки с полосатыми чехлами на них, жбаны с квасом, стоявшие у больных под столиками, толстое госпитальное белье, чулки, колпаки и туфли, и этот удивительный фельдшер с «Замогильными записками Пиквикского клуба», и его простая и мягкая речь — все это было для него так живо и необычайно. Он забыл и о себе и о своей болезни и даже о том, что рядом с ним лежат еще более несчастные люди, чем он сам, цинготные и чахоточные, и весь ушел в просторы новых поднявшихся в нем чувств.
В эту самую минуту за стеной послышался стук и шум. Больные строго и сосредоточенно замолчали и прислушались.
Через дверь, неплотно закрытую, слышны были чьи-то медленные и тонкие стоны, вдруг превращавшиеся в короткий и бессильно обрывающийся крик, словно где-то долго и упорно резали тяжелое железо.
Федор Михайлович напряг свой слух и ясно различил человеческий стон.
Он посмотрел на лежавшего рядом больного, потом на другого и на третьего и понял, что и те догадались. Он задрожал и, соскочив с койки и набросив бурый халат, подбежал, звеня кандалами, и приник к двери. Слегка и неслышно он приоткрыл ее.
— А-а-а!! — раздалось еще громче протяжное стенанье, и Федор Михайлович увидел, как фельдшер, в халате и очках (он узнал Александра Степаныча), прикладывал к спине лежавшего человека мокрую простыню, окунув ее сперва в ведро с мочой.
Человек снова вскрикнул и затрясся, бессмысленно болтая руками поверх спины.
В то же время, как Александр Степаныч вторично уже приподнял простыню, Федор Михайлович заметил сине-багровую спину с болтавшимися кусками кожи и мяса.
В глазах у него помутилось. Он хотел было вскрикнуть, но в горле захватило дух, так что на мгновенье он как бы замер, закрыв даже глаза. Но тотчас же схватился снова, и из груди его вырвался исступленный и умоляющий крик:
— Детушки, детушки! Родные! Спасите его! Спасите несчастного!
Кто-то подбежал с той стороны двери и с силой захлопнул ее. Федор Михайлович, почти шатаясь, воротился к койке и припал к подушке.
Вся палата замолкла, задумалась над происшедшим и стала обсуждать:
— С Зеленой улицы принесли, стало быть.
— Видно, совсем из ума вышибли человека.
— Знамо, не одну тысячу вели под палками.
Зеленая улица была близко от военного госпиталя. Потому она называлась Зеленой, что на ней производили экзекуции, проводили сквозь строй арестантов и солдат, а тальниковые палки, которыми били по спине прогоняемого, бывали выкрашены в зеленую краску. Высшим наказанием считалось 12 тысяч палок. Эта порция называлась удивительно простым словом «полняк». Ходила среди ссыльных легенда о том, что где-то, чуть не в Петровском заводе, за Байкалом, сыскался каторжный по фамилии Жигов, который вынес все 12 тысяч и остался жив (надолго ли, впрочем, никто не знал…). Говорили о некиих богатырях, которые прошли по шесть и по восемь тысяч палок или розог (последние считались гораздо жесточе и сильнее), и хоть с поломанными ребрами и изуродованной кожей, но продолжали жить, порождая о себе особо почтительное мнение и слухи. Обычно же более четырех тысяч редко кто выдерживал, сваливаясь после тысячи, иногда двух-трех или замертво, или в полном бессознании. Часто бывало и так, что после пятисот ударов или тысячи обреченный падал без чувств, как подкошенный, — тогда давали ему передышку, пусть, мол, очнется, и уж через час или два гнали вторую тысячу с обычными прикриками экзекуторов офицеров:
— Катай его! Жги! Сажай! Обжигай!
Если кто из солдат ослаблял удар, поручик набрасывался на него с ревом и ударами по затылку:
— Я тебя научу, скотина, как службу исполнять! Я тебя самого палками забью! Ну, жги!
И солдат, сам отупев и озверев, «жег».
Первая тысяча, говаривали, сыпалась по коже, вторая шла уже по ребрам, третья пускала искры из глаз, а четвертая — это уже были острые ножи в самое сердце. Про пятую и последующие ничего не говорили, так как, видимо, их не с чем было уж и сравнивать и не хватало слов.
Ночью Федор Михайлович не мог уснуть. Все слышались ему барабанная дробь, неистовые крики и стоны и бульканье в ведре выкручиваемой из простыни крови и мочи. Чьи-то острые глаза с налившейся злобой и хищными угрозами мерещились ему сквозь ряды поднятых кверху ружей, и под ними метался, как загнанный зверь, человек с голой спиной. В полузабытьи он вскрикивал:
— Детушки! Детушки! Спасите несчастного! — и тянулся руками куда-то вверх, стараясь отыскать Александра Степаныча и просить у него защиты.
Александр Степаныч выходил из широких острожных ворот и неторопливыми шагами приближался к нему с каким-то бумажным свертком в руке. Бумага медленно и тихо разворачивалась и шуршала, и все это было странно похоже на то, будто выжимают кровь из простыни. «Презанимательная история, — слышались мягкие и ласковые слова Александра Степаныча, — «Замогильные записки Пиквикского клуба», — и толстый том «Отечественных записок» с шумом падал в руки Федора Михайловича. «Хорошо!» — восклицал он, глядя в лицо Александра Степаныча. Лицо фельдшера было прозрачное и стыдливое. Но Федор Михайлович полюбил это лицо, и висящие на носу очки, и смятую в кулачок, совершенно неудавшуюся бороденку. Федор Михайлович остановился в своих мыслях и словно силится что-то вспомнить… Что-то он внезапно забыл, что-то весьма и необычайно важное и даже до самозабвенья радостное… что-то могущее возвысить из бездны и воскресить из беспробудного мрака. Он мучительно напрягает память, перебирая недавние слова, ловит ускользающие мысли и вдруг наскакивает… «Звезда-то! Звезда, Александр Степаныч! Вы пообещали-то з в е з д у». Александр Степаныч нежно и умилительно смотрит и молчит. Губы не шевелятся, и только глаза поблескивают тихим, одиноким и успокаивающим огоньком: какая-то надежда словно теплится в них, навевая беспечальный сон. Федору Михайловичу жарко. Он раскрыл глаза и видит: впереди тускло горит ночник. В углу у двери кто-то равномерно ходит взад и вперед, а за железной решеткой окна стучит и стучит свежий, мглистый предутренний дождь.