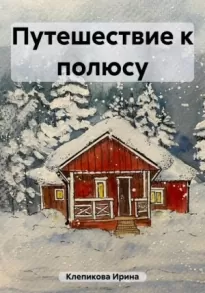Ссыльный № 33
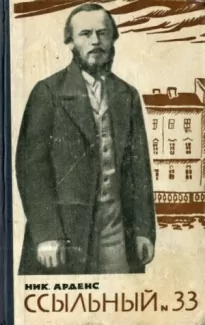
- Автор: Николай Арденс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Ссыльный № 33"
Это было — евангелие. Федор Михайлович весь вспыхнул.
— Для меня это — свет и спасение… — тихо произнес он. И, отойдя в сторонку, раскрыл где-то в середине. — Ведь книга эта написана навеки.
Сергей Федорович разделил присланное поровну.
На другой день снова была передана посылка с съестными припасами, а на третий день три женщины, передававшие посылки, добились свидания у смотрителя пересыльного двора в его собственной квартире, причем не более чем на десять минут.
Федор Михайлович был совершенно повержен их словами, добротой и вниманием и решил, что это — упавшая с неба «милость», это — «перст божий».
Между тем тот же «перст божий» предписал именем генерал-губернатора Западной Сибири отправить Дурова и Достоевского немедленно в Омск и содержать там «без всякого снисхождения и заковать в кандалы».
Через шесть дней их двоих (Ястржембскому было назначено другое направление — в Екатерининский винокуренный завод в Тарском округе) отправили при двух жандармах в Омск.
Путь в Омск был уж совершенно дик и безлюден. По дороге, еле-еле проторенной редкими полозьями, мчались две тройки, в одной — Дуров, а в другой — Федор Михайлович с жандармами, причем оба в меховых малахаях с наушниками и при малейших движениях звенели кандалами в звонком морозном воздухе. Мороз достигал тридцати градусов. Они ехали в кошевых (это особый род сибирской зимней повозки), останавливаясь лишь на два-три часа на станциях, до отчаяния редких в пути.
Федор Михайлович по-прежнему молчал, но молчал сосредоточенно. Недоумевающе сопоставлял он разные факты и мысли. Встречи в Тобольске с женами ссыльных его растревожили до умиления, до благодарности решительно всем и всему. Есть люди еще! Есть любовь на земле! — мелькали незабытые слова. Но эти слова вдруг останавливались и точно поворачивали его назад: ну, а его собственное приключение в крепости и стояние у смертного эшафота — что же это такое? — не унимался вопрос. — Из какой «любви» исходило все это? Он кидался мыслями в разные стороны, метался в путанице событий, хотел все забыть, но забыть не мог, и в нем вскипали вдруг месть и проклятия всему миру насилий и гнета. Но месть страшила его, а от жертвы он мигом отказывался. И тогда другой голос нашептывал: прости — и будешь свободен. Пренебреги обидой и перестрадай — вот еще невиданный, но, быть может, самый верный и нужный путь и самый надежный смысл! Проверь свои новые цели! Не отвергай того, что назначено и неотвратимо.
Он думал о своей «судьбе», о ее неотвратимости и примиряющих целях. Но сознание своего одиночества, колкие слова об обреченности, об изгнанничестве неотступно преследовали его. Он рвался из их хаоса и жадно искал приюта издрогшим мыслям. И тут книжечка с «истинами», подаренная в Тобольске, настраивала его на старый-престарый лад и вызывала в памяти все детство с матушкиными молитвами и наставлениями. Душегрейка снова и снова грела, как в его раннюю пору, как в Петербурге… Душегрейка чрезвычайно ловко возносила к небесам придавленную и уязвленную душу, и Федор Михайлович забывался, покоренный мыслью, что столь чрезвычайное его положение, так надавившее на его жизнь, — это не что иное, как посланное ему для испытания наказание, которое он должен принять (и уже даже принял) и непременно вынести, чтобы тем самым утвердить уж навсегда все свое право на жизнь и на весь земной путь… В этом, казалось ему сейчас, заключалась его высшая математика, к которой он пришел в дороге, после событий столь необычайных, столь потрясших его и не совсем еще объясненных им.
Одно, что уже вполне ощущал он во всей своей громадности, — это то, что его горячим мечтаниям и стремлениям поставлены были непреодолимые преграды в виде страшных фактов, надломивших его мысль, — начиная с сиденья в каземате и кончая той усталостью и разбитостью, которые одолевали его сейчас, после холодного и бесприютного пути. Он впервые начал понимать, что такое кара, злая, бесчувственная кара, что такое наказание и сибирская каторга, в чем их суть и каков смысл. И к чему ведет оно, это наказание? Из всего этого он выводил то мнение, что надо угадать свою новую судьбу — надо пересдать карты. Он мучительно хотел оторвать память от недавних фактов и силился думать о людях, с любовью помнящих его, о брате, о женах сибирских изгнанников, которые пришли и так участливо, с душевным теплом помахали ему и Сергею Федоровичу при выезде из Тобольска… Он жаждал покоя и всем хотел выказать свою кротость и расположение. В часы таких нахлынувших всепримиряющих вычислений он тихонько сидел в санях, спрятавшись в малахай и закрыв глаза. На снежные покровы ложилась уже лиловатая вечерняя мгла, а он будто только пробуждался в самых ранних своих желаниях и воспоминаниях. И вдруг среди самого упоенья, когда, казалось, все было приведено в точный расчет, он судорожно потягивался и открывал глаза. Это злые мысли, как комары в теплый летний вечер, укалывали его в самые больные места души. Петербургские дела и слова, давно, казалось, забытые, вдруг как живые проносились мимо и язвили до боли. Из неясной тьмы совершенно неожиданно заблестит, вся будто в лучах, голова Николая Александровича с той же улыбкой, не то снисходящей, не то опекающей. И тут же ключики от его замочка зазвенят комариным голоском, как тогда, при отдаче пятисот рублей… И до омрачения рассудка станет не по себе. То вдруг примерещится аудитор на Семеновском плацу, отбивающий свои приговоры. И за ним крикливые команды, суета у эшафота, гвардейцы, и барабанный бой, и тысячи устремленных на него глаз, и помутненный рассудок во весь тот день, и кареты с темными, завешенными окнами, и леденящий холод п о с л е д н и х минут… И тут, рядышком, Василий Васильевич и его глаза, которые не то ему казались, не то будто и в самом деле он видел их в э т и свои мгновенья из мертвевшей дали декабрьского петербургского утра. Он вспоминает сейчас вонзившиеся т о г д а взгляды и хочет уловить самую м ы с л ь их, самую суть, но в сути вдруг чувствует укор и порицание. Василий Васильевич будто подымает брови и гордым подмигом глаз как бы указывает Федору Михайловичу какой-то иной путь, еще дальший, но зато увенчивающий и преодолевающий все призраки и фантасмагорию. И тут Федор Михайлович в трепете открывает глаза… Он с трудом различает сугробы снега, бегущие все назад и назад, и топот лошадей впереди, и ямщика, гудящего про себя какую-то песню.
Но вот движение, замедляется. Тройки подъезжают к станции Абатской. Убогий и заснеженный домик среди безбрежного белого моря. Из трубы валит узкой струйкой вверх серый дымок. Рядом с домом конюшня, и сложены дрова, тоже занесенные снегом. Слышен лай собак, и становится от него веселее и как-то надежнее на душе.
Жандармы ушли к смотрителю о чем-то переговариваться. Федор Михайлович вылез из кошевых и прохаживается по снегу, разминая ноги и непривычно полязгивая кандалами. Ямщик-сибиряк, соленые уши, закуривает и Федору Михайловичу дает:
— На, сердешный, потешь… Оно теплее будет.
Федор Михайлович крепко и робко благодарит.
— На долго, что ль, тебя-то?
— Четыре года…
— Да-а…
И после некоторого раздумчивого молчанья:
— Небось жена осталась?
— Жены нет…
— Ну, оно того… легче, значит… Только больно блох-то много там. Ух, блох-то! Да и начальство — страсть! Кажный каторжан, а в ём душа есть, а в начальстве, слышь, души нету.
И снова бегут назад версты, и снова перед глазами Федора Михайловича нескончаемая снежная равнина, кое-где поросшая щетинкой лесов.
Почти месяц он провел в дороге, в самую трудную зимнюю пору, в жесточайшие морозы, по безлюдным полям, и теперь приближался к Омску, где назначено было отбывание ссылки.
Но весь этот огромный каторжный проспект, со всеми его тяжестями и изнурением, пришелся ему легчайшим испытанием после проведенных в крепости месяцев, после одиночного заключения и допросов и смертной пытки на Семеновском плацу, которая даже смутила рассудок и привела в полное содрогание все чувства.
В дороге он старался вдохнуть уж полной грудью воздух, которого так жестоко не хватало в дни ареста. Дорога настроила его на совершенно особенный, раздумчивый и даже мечтательный лад. Он решил первым долгом успокоить взбудораженные и омраченные чувства. Для этого он пустился в поиски новых целей и приманок жизни. Приманки были пока что чрезвычайно неясные, но именно потому они и вызывали в нем любопытство. Заманчивые понятия о «персте божьем», о «ниспосланном испытании» (из лексикона почтенного Степана Дмитрича… Что-то делает сей благонравный медик теперь у себя дома, в Санкт-Петербурге, и как судит о своем любимом пациенте?!) — все они удивительно сейчас начали манить его, искавшего все новые и новые формулы жизни и хватавшего всякую соломинку в волнах бурного своего бытия. И все же как был он страстным охотником до всяких «тайн жизни», таким и продолжал оставаться.
Короче говоря, приманки сосредоточились на предании себя «воле божьей» и на некоем «искуплении», которое никак не могло ранее прийти в мысль, а потревожило его лишь сейчас, когда им был пройден уже немалый и усыпанный терниями путь.
Нынешний, 1850 год открывал перед ним просторы как бы новой жизни, совершенно не похожей на предыдущую и, может быть, именно той, которую он и хотел в ы д у м а т ь. Не в ней ли заключалось то самое «пять», которое он так упорно хотел вывести из «дважды двух»? Может быть, и так. И даже, пожалуй, наверное так… Однако, приблизясь к таким примирительным выводам, Федор Михайлович останавливался в своей памяти, словно охваченный лихорадочной дрожью, и, берясь с каким-то отчаянием рукой за руку, бросался к своему недавнему прошлому, к ранним своим горячим минутам, и будто в первый раз, одним толчком мысли вдруг снова узнавал, что он уже отрезан от всего прошлого, что этого прошлого внезапно и беспрекословно не стало и весь пыл его, все мечтательство юного ума, вся завязка жизни — все оторвалось, все попрано… Но, однако, по какому праву? И почему сейчас он — в сибирских санях и кругом обступила бурая и лютая зима?! Тревожным взглядом всматривался он в лежавший впереди путь.
— И куда я еду? Зачем и за что? — вспыхивали вопросы один за другим. — Боже мой, дай силы! Дай вытерпеть все, что ты послал!
В таких растревоженных чувствах он был привезен вместе с Дуровым в Омск — прямо в крепость.