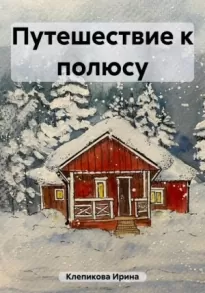Ссыльный № 33
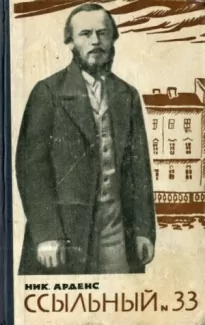
- Автор: Николай Арденс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Ссыльный № 33"
По Сибирской дороге
Все происшедшее в последние дни словно перестроило сразу всю фантастику Федора Михайловича. Мир казался ему теперь до отчаяния холодным и совершенно темным, будто без людей и без жизни. И как он ни утешал себя, а в этой скованности и безразличии лишь единственным напоминанием о том, что он е щ е ч е л о в е к, была мысль о посягновении на его жизнь, о том, что кто-то десять дней тому назад д о т р о н у л с я до этой самой стороны, именно до его жизни, и пытался даже по каким-то законам уничтожить все то, что он всегда считал собою и своими собственными желаниями. Желаниям его и всей его воле — так о к а з ы в а л о с ь сейчас — жизнь определила какие-то границы, о которых он не знал и через которые ни он и никто другой не смели и не смеют, видимо, переступать. Именно так все это оказывалось. Случилось же это к некоторой его непредвиденности и потому особенно упорно требовало от него объяснений и подавляло его. Но мысли его вполне подчинялись сейчас его чувствам. Гордые планы отодвинулись, поверженные неумолимыми событиями. Вместе с усталостью и томлением тела нестерпимо болела душа. Страшно много легло на сердце Федора Михайловича. Так много, что рассудок словно как-то оттеснился, как-то посторонился, предоставив чувствам — удивительно терпеливым — понять все пережитое, объяснить его во всех внезапных подробностях и прийти к каким-то новым, вполне достойным, вполне возможным и совершенно сбыточным требованиям и намерениям. И их надо было искать, надо было ими жить и проникаться.
Сидя в санях, он тихонько и натужась шевелил ногами, стараясь привыкнуть к кандалам (в них фунтов десять, думал он), и затаенно, в бессилии молчал. Молчали, впрочем, и Дуров, и Ястржембский, и три жандарма, приставленные к ним, и молчал даже Прокофьев, чрезвычайно говорливый человек, весьма суетившийся на станциях и всюду запасавшийся провиантом.
Путь лежал пустырями на Новгородскую, Ярославскую, Костромскую и Пермскую губернии (ссыльных всегда везли этими окраинными дорогами, минуя Москву).
Когда они проезжали через деревни, бабы, ребятишки и мужики сбегались смотреть на них, как на зрелище. Кто бросал вдогонку калач, кто участливо качал головой, а кто снимал шапку и крестился, что-то приговаривая про себя.
После восьми — десяти часов пути они останавливались где-либо у трактиров и принимались с жаром пить чай, чтобы отогреться. У Ярославля был большой станок, и Федор Михайлович, исхолодавшись, сказал Прокофьеву:
— Кузьма Прокофьич, кабы это закрытые сани нам. Больно холодно уж.
Прокофьев широко улыбнулся, шевеля седоватыми усищами, и побежал хлопотать.
— Добрая душа, — не выдержал расчувствованный Федор Михайлович, подойдя к Дурову и Ястржембскому, угрюмо молчавшим.
Через два часа сани были сменены на закрытые.
Необычайная дальность дороги придавала езде еще более затаенный и как бы отрешенный от жизни смысл. Жандармы торопились все вперед и вперед, и с таким старанием, словно всю жизнь ждали исполнить эту именно завидную обязанность.
Почти до самой Перми не было проронено ни одного слова. Усталость мгновениями заполнялась новыми и новыми тревогами рассудка, но молчание не нарушалось никем. Наоборот, все будто даже с испугом отворачивались и избегали на остановках встречаться друг с другом взглядами и заговаривать, особенно о самых последних событиях. Так много было запрятано где-то в глубине и боялось показаться наружу.
В Перми Ястржембский почувствовал недомогание, и его отправили в госпиталь, так что все трое задержались, пока лекарь не отпустил больного.
Самые мучительные версты пришлись на уральские дороги. Тут ударили жесточайшие морозы. Федор Михайлович временами дрожал от холода, кутаясь в полушубок и обкладывая сеном валенки. Ночью ехали почти шагом, увязая в снегу и часто вытаскивая сани и лошадей из сугробов. Федор Михайлович временами доходил до полного упадка сил, а раз ночью на сибирской границе донельзя сдавило ему грудь от тоски и прошибла слеза…
У самой Тюмени лошади нагнали длиннейший этап арестантов, мужчин и женщин, и с этим этапом путники проехали, или даже, вернее, прошли верст полтораста.
Дорога тянулась по холмистой равнине, вдоль лесных зарослей, то незаметно подымаясь, то плавно спускаясь в болотистые низины, засыпанные рыхлой толщей снега. Мелкий кустарник сменялся старым и густым лесом, и из его бурых щелей вырывался ветряной гул, разносившийся в холодных просторах поля.
Под серой пеленой облаков холмились снежные сугробы, изредка продырявленные следами человека и зверя.
Деревни чем далее, тем попадались все реже и реже, и многие из них, провалившиеся за пухлыми засыпями снега или скрывшиеся за лесную поросль, медленно передвигались назад, по мере движения этапа, невидимые арестантам.
Морозную тишину белого поля оживляли лишь встречные перекладные и мужицкие лошади, торопившиеся к ближайшей станции или в соседнюю деревню. Они нехотя сворачивали с пути и объезжали растянувшийся почти на четверть версты этап. Ямщики с бранью подстегивали вспотевших и запенившихся коней и, не снимая шапок, крестились, поглядывая на арестантов. Иногда с проезжавших встречных саней перебрасывались в руки каторжных калачи или даже куски вареного мяса, так, чтобы не видала стража, — это сердобольные бабы и мужики, а то и купеческая жена отдавали свои лепты, с тайным расчетом получить отпущение грехов и исполнение желаний как в т о й, так и (особенно) в э т о й жизни.
— О здравии раба божия Андрея помолитесь, сердешные, — мямлили они шепотком, вглядываясь в лица голодных и усталых людей. — За упокой Марфы новопреставленной… Пошли вам, господи… — При этом они крестились мелкими помахиваниями пальцев перед носом, а иные всхлипывали, после чего облегченно, уверенные в спасении, сморкались.
Мороз сдал. Кроме того, сменили сани. Новые, сибирские, были обиты медвежьим мехом. В них были впряжены маленькие лошадки, которые бойко взялись за дело и мелкой-премелкой рысью потащили с фельдъегерской скоростью.
Так день за днем Федора Михайловича с Дуровым и Ястржембским привезли в Тобольск. Еще издали, подъезжая к городу, за зубчатой стеной кремля Федор Михайлович разглядел купола Успенского собора и белую колокольню Софийского пятиглавого собора.
Тобольск — город широкий и суетливый. Люди тут хоть и тихие и приниженные, но с улыбками, и это Федор Михайлович с приятностью отметил, когда они подъехали к приказу о ссыльных. Приказ находился в длинном и грязном одноэтажном доме с повалившейся штукатуркой. Дом стоял за высоким каменным забором, как обиженный, угрюмо и в сторонке, на небольшой площади.
Член приказа спросил прибывших:
— Деньги есть?
— Есть…
— Отобрать все! — кивнул он приказному чиновнику.
— В острог! — с начальнической решительностью заключил он, и всех троих вывели.
В остроге, почти не видном за огромной каменной оградой, их ввели в грязную-прегрязную комнату.
— Покажи ногу! — командовали местные чины, и все закованные поочередно показывали свои ноги под лязганье кандалов.
— Кузнецы! Заковать покрепче! — последовало для всех троих одинаковое решение.
После перековки кандалов их отвели в большую, но совершенно почти темную камеру, во дворе, с покатыми нарами, с холодным полом, и в ней было сыро донельзя. На обед принесли по чашке мутных щей и по куску хлеба, до странности тяжелого и клейкого. В щах плавали какие-то совершенно посторонние предметы, в том числе куски старой кошмы. Но на голодные желудки все это было безоговорочно принято.
Федор Михайлович был в новом приступе отчаяния и тоски. К тому же его одолевали усталость и недомогание во всем теле. На лице появились золотушные пятна, в горле першило. Он сел на нары и не глядел в узенькие, с решетками, окошечки, выходившие во двор, словно совсем отвернулся от света. Голова была опущена к полу.
Рядом с ним на каком-то грязном мешке, набитом сеном (его величали тюфяком), сидел Ястржембский и, полузакрыв лицо руками, старался определить, что же лучше и глубокомысленнее — продолжать ли идти назначенным путем или же остановить весь этот ход и покончить всякие счеты с жизнью, вконец истолченной.
— Не могу я, Федор Михайлович, все это терпеть. Душа не велит. Головная боль и обмороженные ноги не мешают мне, нет… Они терпеливы. А вот рассудок непримирим, не принимает всего этого, толкает к последней мысли, к последнему слову здесь, на земле…
— Бойтесь таких мыслей, — решительно отвечал Федор Михайлович. — Жизнь — превыше всего того, что может дать смерть. И жизнью надо непременно дорожить, как ни худо бывает на сердце и в рассудке. Ведь вам второй раз дана жизнь… Ведь перед вами новая задача: пережить ее, эту жизнь, а за ней будет новая тропа, новые дни и новые люди. И полнейшее примирение, уверяю вас…
День длился серый, тяжелый. Перед вечером, уже в сумерки, их вывели во двор, на прогулку, длившуюся пятнадцать минут. В противоположном углу двора гуляла, или, вернее бы сказать, толклась на месте, другая группа арестантов, и у одного среди них Федор Михайлович приметил чрезвычайно знакомую ему походку. Он с усилием пригляделся, и вдруг вырвалось у него:
— Господа, да ведь это Спешнев!
Дуров и Ястржембский оглянулись и даже чуть не вскрикнули:
— Николай Александрович! Он точно и есть!
Николай Александрович в длинном полушубке, медленно и так же размеренно (несмотря на кандалы), как всегда, прогуливался от ворот к сарайчику и обратно, не поворачивая головы в сторону, а глядя прямо в даль, загражденную высокой каменной стеной.
Федор Михайлович приковался взглядом к этой фигуре, и только приказание идти в каморку оторвало его от нее. Воротившись, он молча зашагал по комнате. Но его молчание скоро прервал острожный надзиратель, вошедший с большим свертком и с видом весьма таинственным, как бы молящим пощады. Он остановился у самого входа в своих тяжелых сапогах.
— Господа дворяне, — сказал он с тихой осторожностью, передавая в руки Сергея Федоровича сверток, — это прислали вам генеральши, жительницы наши, тобольские, значит…
Сергей Федорович с совершенным недоумением взял в руки поданное и не менее смущенно спросил у столь робевшего тюремного чина:
— А кто же именно? И по какому поводу?
— По поводу, значит, прибытия вашего. Они проведали об этом, госпожа Анненкова, стало быть… А ее муж — ссыльный, еще с двадцать шестого года… Также и госпожа Фонвизинова и Муравьева…
Ястржембский стал нетерпеливо разворачивать посылку, очевидно, негласным образом и за хороший подкуп попавшую в эти стены. В посылке были: хлеб, сахар, пирожки, рукавицы, брюки и куртки, немного белья и три небольшие книжечки, из которых выпали три десятирублевки. Сергей Федорович раскрыл одну из книжек и в волнении перекрестился. Тогда Федор Михайлович взял другую и, увидев, что эта такая же самая, крепко сжал в руках и приложил к груди. Третий экземпляр взял Ястржембский, открыл заглавие и, прочтя его, улыбнулся и отложил в сторону, сказав с дрожью:
— Это, господа, то, что загнало нас сюда.