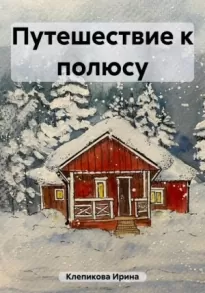Ссыльный № 33
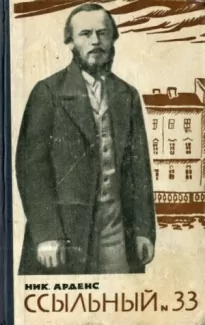
- Автор: Николай Арденс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Ссыльный № 33"
Санкт-петербургские бунтовщики и мечтатели
В Петербурге Федор Михайлович слышал непрерывное гуденье различных политических гнезд. Если бы можно было снять крыши со столичных домов, ему представилась бы причудливая картина: безусые студенты вперемежку с почтенными отцами и владетелями обширных семейств проливали пот над философическими книгами, которых развелось к тому времени чрезвычайное множество.
Твердили ли клятвы над ними, отрекались ли от всего заблудшего рода человеческого, — Федор Михайлович не мог всего рассмотреть, только видел он, как недавние тихонькие и смирненькие люди вдруг полезли через всю историю и, не успев износить своих вицмундиров, впали в сомнения и рассуждения: так ли ведется все на белом свете, как надо? Особенно пригляделся он к тем же б е д н ы м л ю д я м. Бедные люди капризны, говорил он себе во многий раз. Бедные люди всегда больше всех волнуются.
И на этот раз они волновались пуще других, причем волновались как-то затаенно и с угрозой.
В квартире этажом ниже, в том же доме Шиля, где проживал и Федор Михайлович, ютился мелкий служилый дворянин Кащеев. Звали его Василий Васильевич. На вид он был длинным и сутулым, как Балтийское море на карте, при этом донельзя суетливым, хотя говорил на редкость мало. Только Федору Михайловичу, которого он подстерегал на лестнице всякий раз, как тот по утрам спускался вниз и шествовал к Степану Дмитричу, страшно любил выкладывать свои планы насчет переделки всей жизни по новому уставу.
Он говорил со страстностью, иногда затаив дыхание и как бы на ухо. Федор Михайлович узнал от соседей, будто Василий Васильевич по вечерам, как ложится спать, не читает никаких молитв, а вместо них с торжественностью произносит речи Робеспьера и Марата. Из карманов его всегда торчали газеты или брошюры, но ни одну из них он не мог дочитать до конца, хотя самое главное выискивал и выучивал почти наизусть.
Федор Михайлович пригляделся к нему и даже полюбил то, что было в нем. Самый «дух его». Он думал о нем как об образце многих столичных бунтовщиков, получающих где-то гроши за свою службишку и ненавидящих ее, как ненавидели они и то, что было началом всех «служб», — престол Николая I.
В минуты откровенных признаний Кащеев загорался таким словесным пылом, что Федор Михайлович — уж на что сам был горяч — нетерпеливо поморщивался и оглядывался. Голос у Василия Васильевича был густой и басистый, и когда он говорил, губы его старались как можно явственнее произнести ту самую сокровенную мысль, какую он долго носил в себе и берег именно для встречи с Федором Михайловичем.
— Вам-пирр! Зверь! И душа зве́рья! — так он именовал Николая I, причем никогда не называл его иначе, даже в минуты тихих, домашних наблюдений. Только однажды, когда он высказался Федору Михайловичу в том смысле, что не побрезгал бы даже убийством ради идеи, он свел бас до тоненького фальцета и почти на ухо прошептал: — Вот этими перстами, вы видите, — он развернул свои широкие ладони и медленно повертел ими, — вот этими самыми раздавил бы нашего ц а р и ш к у.
Кащеев никогда не был даже у порога комнаты Федора Михайловича. Он всегда шел откуда-то навстречу ему. На лестнице, во дворе, на улице, в Летнем саду, у Измайловского моста — всюду мог внезапно показаться Кащеев, с зонтиком в руках и газетами, торчащими из карманов, и заговорить с Федором Михайловичем, даже не будучи надлежащим образом знаком с ним. Кащеев слыхал, что Федор Михайлович — сочинитель и с «Отечественными записками» дружен, значит, господину Краевскому служит, а эта «служба» в его глазах была невинной и даже, может быть, полезной для нового человечества, которое вот-вот, по его расчетам, должно было непременно родиться. Кроме того, Федор Михайлович, как сочинитель, внушал ему совершенное доверие:
— Уж коли так, то, значит, человек понимающий и до подлости не доведет.
На творческие замыслы Федора Михайловича его любопытство не распростиралось. То, что Федор Михайлович сейчас сидит и пишет «Неточку Незванову», это его не слишком занимало, а вот как Федор Михайлович думает по поводу земельного бесправия крестьян, или солдатской муштры, или царских поборов и шпицрутенов — вот это его жгло и раздирало любопытство.
— Вы, милостивый государь мой, — говорил он Федору Михайловичу, — не помните, с чего этот з в е р ь начал? А? Не помните… То есть вы об этом читали и слыхали… Но этого мало. Надо было видеть. А я видел… Забрался на чердак одного домишка на Кронверкском и в подзорную трубу рассмотрел во всех подробностях, как это было, у самых ворот, в Петропавловской: п я т ь человек, один рядом с другим, висели на пяти веревках. И, заметьте, уловил самые горячие, самые первые и, так сказать, свежие моменты… Каких-нибудь две, три, четыре секунды. Но зато какие! Слов не нашел, а только захрипел — от потрясения, от судорог. Качнулись о н и и… вы это сможете понять человеческим рассудком? Особенно один таким мелким трепетом заколыхался на веревке. Это был Кондратий Федорович. Уверяю вас. Никто, как он. Как сейчас помню… А через секунду двое свалились наземь. Тут произошел полный переполох. Генерал подскочил, и палачи за ним. Зверье! Подняли и втащили заново. С тех пор, милостивый государь мой, Федор Михайлович, я н е н а в и ж у. И ненависть моя — это самое лучшее, что во мне есть, что оправдывает все мое существование на земле. Это то, чем дышит моя грудь.
Кащеев говорил, точно стучал словами, и после каждой фразы взглядывал на своего собеседника.
— Я ищу тех, кому я должен отомстить. Помню живехонько 25-й и 26-й годы, и как погляжу на нынешнее — пламенею и трепещу: вот так бы и надсмеялся над всеми этими вершителями. Уж так бы упоенно, собственными глазами поглядел, как бы это их оболванили овечьими ножницами да иссекли бы плетьми. Сам бы измором всех их взял да перед всем народом: нате, мол, держите, повелители, и чувствуйте гнев народа и возмездие справедливости.
У Василия Васильевича, рассказывали, где-то в Тамбовской губернии проживал родной дядюшка, в собственном своем имении, с парком, желтенькими аллейками, перекидными мостиками, рекою, конским заводом и пятьюстами душами. Буйный и глупый был человек. На ярмарках шумел и в столицу приезжал развлекаться. Так вот этого самого дядюшку (так повествовал дворник у Шиля) Кащеев вытолкал из своей квартиры и преследовал по лестнице до дверей, пока тот не очутился на улице.
— Кровопийца ты! — кричал он. — Изверг! — сыпались определения дядюшке, не в меру открывшему перед племянником свои проделки в деревне.
Дядюшка скрылся и с той поры не показывался более на глаза своему «сумасшедшему» Васеньке.
Купеческое население шилевского дома сторонилось Кащеева. Также и отставной генерал Задиралов, проживавший в первом этаже, в десятикомнатной квартире, с пятью мопсами, всегда выжидал у своих дверей, пока Кащеев на длинных ногах спускался сверху по лестнице, намереваясь отправиться на Петербургскую сторону, где он служил в кредитном обществе. Генерал не выносил его «высокомерия не по чину». У дворника Кащеев тоже был на примете, и хозяин дома не раз внушал ему:
— Ты, Спиридон, гляди за ним, кабы чего не вышло, — но что именно могло «выйти», ему никак не удавалось определить.
Ко всему тому нужно сказать, что Кащеев жил вообще тихо и смирно, изо дня в день просиживал положенные часы на службе и, возвращаясь домой, аккуратно заходил в одну и ту же дешевую кухмистерскую на Невском проспекте, в подвале, у самой Конюшенной. Только изредка он позволял себе невинные удовольствия вроде того, что отправлялся смотреть большое кормление змей в зверинце Зама, или покупал душистое мыло у Геймана, что против Малой Морской, или, в самых уж редких случаях, ездил по царскосельской дороге в Павловск — послушать у вокзала оркестр господина Гунгля. В остальное время Василий Васильевич созерцал природу и людей, про себя порицая все устройство жизни и грозя великой местью, к которой он, как о том подозревали генерал Задиралов и дворник Спиридон, несомненно, если не готовился, то мог готовиться.
Проходя мимо генерала или дворника, Кащеев не глядел в их сторону, а вел себя так, как будто бы близко от него не было никаких посторонних личностей. Он угрюмо и исподлобья вглядывался вперед и так густо сжимал складки на лбу, точно вычислял про себя расстояния между самыми отдаленными планетами в эфирных безднах.
Терпеть не мог Кащеев ту породу людей, которая сушила свои мозги за чтением Гегелей и занималась в разных кружках многоглаголанием. А между тем таких именно людей была целая тьма с потемками, как он определял.
— Мечтатели! — презрительно обзывал их Василий Васильевич. — Чем бы жевать жвачку, — пошли бы да и с д е л а л и д е л о. А дел-то нет.
Кащеев признавал только д е л о, хотя сам-то до сих пор и не приступил к нему, а в кругу своих друзей все что-то доказывал, отстаивал и предупреждал. Он спорил о Франции, ждал вспышек, которые зажгут всю Европу. Всевозможные доктрины, экономические законы и даже спор фаланстерианцев с неугомонным Кабе не слишком тревожили его внимание, обращенное к будущим временам великих чувств. Теории были для него напрасным трудом людей, отверженных жизнью.
— Нет, вы подумайте, милостивый государь мой, — снова и снова порывался он негодовать и наставлять, — те самые люди, которые могли бы (да, именно могли бы!) исполнить все надежды народов, — эти самые люди занимаются фантастическими предрешениями и обсуждают все, так сказать, кухонные подробности будущего социального устройства, а перед настоящими-то делами, перед всей жизнью-то ходят тихонько и деликатно — так, словно на цыпочках, и все думают… Эка невидаль: думать! Нет, ты с д е л а й, а не носи в карманах свои «и д е и». А то вот у нас в Петербурге все собирают библиотеки, складывают и помечают заграничные волюмы, читают, сходятся на целую ночь и до беспамятства говорят… А что толку-то с их слов? Слова — всегда слова и только-с!
Федор Михайлович решил, что в таких людях заключен некий залог будущего и что их недовольство — не простое, от лени или тоски, а таит в себе голос и надежды многих, таких же отодвинутых в сторонку людей. В их унижениях и бедности он увидел п р а в а на счастье и порыв к свету. Их ненависть он понял как тоску по лучшей жизни, выношенную долгими годами и оправданную всеми условиями тяжелого времени, в коем личность человеческая была забита и попрана крепостническим трудом и чиновническим произволом. И всеми своими порывами он откликался на нетерпеливое брожение человеческих мыслей.
— Да, — думал он про себя, — Россия — страна идей. И идеи эти — ее кровные, ею выношенные, родные. Не привозные истины спасут ее, хоть они весьма эксцентрические и великодушные, а наши собственные мечты и дела.