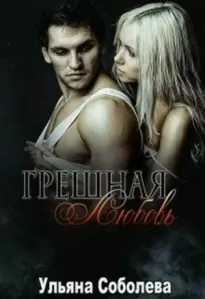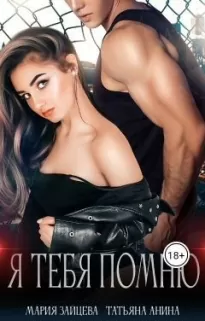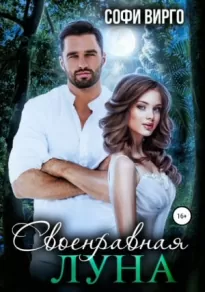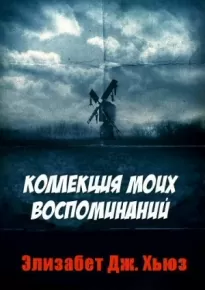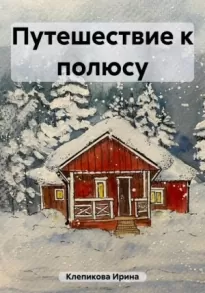Ссыльный № 33
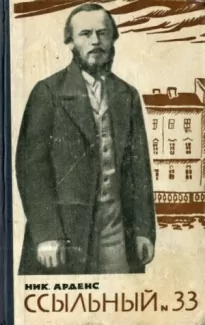
- Автор: Николай Арденс
- Жанр: Биографии и Мемуары / Историческая проза
- Дата выхода: 1967
Читать книгу "Ссыльный № 33"
Последние тревоги
Добравшись до Кузнецка, Федор Михайлович увидел маленький городишко, прилепившийся у скалистого берега Томи, в котором обитало едва полторы тысячи жителей и было не более пяти или шести улиц, совершенно непроходимых в дождливые дни. Дырявые заборы с высокими воротами, покосившимися и позеленевшими от старости, преграждали доступ во дворы, издавна загрязневшие благодаря непременному пребыванию в них свиней, кур и уток. Дома, деревянные, с тесовыми крышами, стояли поодаль друг от друга, сиротливо и молчаливо, словно разлученные злыми людьми и жестоко обиженные.
День выдался хмурый и сырой. Ветер, казалось, порывался снести все крыши и изломать все заборы. На небе, набегая друг на друга, беспорядочно двигались облака, точно в страхе торопились уйти от погони. Они то превращались в одну непроницаемо-серую массу, заполнявшую своей громадой полнеба, то через несколько мгновений снова бежали разорванными и ободранными клочьями, на которые вдруг падали еле мелькавшие холодные лучи скрытого, неведомо где пребывающего азиатского солнца. Сырой ветер, будто вырываясь из какой-то чудовищной засады, то бил прямо в лицо, то бросался в разные стороны. Наконец небо заволокла бескрайняя туча, набухшая от воды, и заморосил мелкий-премелкий дождик, все усиливаясь и усиливаясь.
Федор Михайлович шел по мокрым незнакомым улицам, крепко-накрепко запахнув свою легонькую, только что сшитую офицерскую шинель, и нетерпеливо искал прохожих людей, которые могли бы сказать, где живет семейство Исаевых. Встречных на улицах, однако, почти никого не было. Сердце его билось неровно и трепетно. Тело пробирала холодная дрожь. «Что-то там, у н и х, в доме? И какова-то о н а там? — метались в голове вопросы, один другого тревожнее. Наконец одна старуха, показавшаяся из-за угла, припомнила улицу, на которой живет вдова Исаева:
— Как пройдешь три номера, так на четвертом они самые и живут… — Она ткнула своим дырявым зонтиком в ту сторону, куда надлежало идти Федору Михайловичу. Улица, начинавшаяся от церкви, являла собой примерный вид захолустья, отрешившегося от всего окружающего мира.
И вот наконец Федор Михайлович, пройдя «три номера», очутился перед домом с пятью окнами на улицу и со скамеечкой у забора, у самой калитки. Он вытащил из правого кармана чистенький носовой платок с ветвистой каемкой (захватил с собой в дорогу из свежей, только что купленной дюжины) и старательно вытер усы и все лицо, мокрое от дождя. Но не успел он потянуть за проволоку от звонка, как за дверью послышались торопливые шаги: то бежала уже Марья Дмитриевна, а за ней и Паша, видно заметившие Федора Михайловича еще у ворот. Паша перегнал мать и припал к мокрой шинели Федора Михайловича, который приподнял мальчика и жарко поцеловал. Марья Дмитриевна, вся в слезах, обняла Федора Михайловича и долго не могла отступить от него. И у Федора Михайловича тоже показались слезы. Оба вспомнили об Александре Ивановиче и еще раз всхлипнули. И Паша заплакал и прижался к матери.
— Ну, будет, будет, — из горла выдавливала, обращаясь к сыну, Марья Дмитриевна; ее душил кашель. — Измучились мы, Федор Михайлович, настрадались, друг наш.
Напрасно ждали и Федор Михайлович и Марья Дмитриевна спокойствия духа. Долгая разлука завершилась страстными речами без всякой даже передышки. Обе стороны почувствовали, что пришла настоящая пора изъясниться во всех пунктах и по всем заботившим их обстоятельствам. Федор Михайлович начал с того, что воздал должное Александру Егорычу, которого представил как своего спасителя, как золотое сердце, как солнце, бескорыстно согревающее душу и тело. Он поведал Марье Дмитриевне о своей смертельной тоске и бессонных ночах, полных страха за нее, о мнительных мыслях по поводу ее отношения к нему — простому солдату, никак не обеспеченному и не имеющему еще твердой опоры в настоящей жизни и тем более в будущей. И могла ли поэтому Марья Дмитриевна без всяких сомнений думать о нем как о своем муже и надежном спутнике и хранителе?
Марья Дмитриевна перебивала Федора Михайловича и во многом подтверждала им сказанное:
— Да, не могла, Федор Михайлович, полагаться вполне на ваше доброе-предоброе сердце и пылкий ум, зная ваше положение, зная, что вы еще далеко где-то на пути и хватит ли у вас сил, чтобы расточать на меня и на моего Пашеньку свои чувства и желания. А ко всем этим сомнениям прибавились обстоятельства, которые я скрыла от вас, боясь огорчить вас, зная, как вы страдаете в одиночестве. Тут, в Кузнецке, по смерти Александра Иваныча забегали ко мне всякие свахи, еле отвадила их, а вместе с тем объявился с пресерьезными намерениями один молодой учитель из местной школы, человек с доброй душой и чувствительным сердцем, и я даже была тронута его лаской, и даже в голове шевельнулись всякие мысли, не он ли тот, кто может составить мое счастье… Но нет, Федор Михайлович, нет и нет, это было всего только мгновение, это было в горячке, в полном изнеможении, в полном отчаянии. Я была несчастна и одинока и без веры в завтрашний день. Я увлеклась мыслью о своем счастье, но когда на память приходили вы, я ужасалась, я ждала вас и ваши письма, полные забот обо мне. Я терпеливо надеялась на вашу судьбу, на вашу помощь… Я звала вас, хоть нас отделяли сотни верст.
— Так я и знал, так я и чувствовал, Марья Дмитриевна, — ответствовал Федор Михайлович, который насквозь все прочитал. — Сердце у вас слабое, душа больная, пугливая, в несчастье совершенно повергаемая… — Но тут же Федор Михайлович заявлял, что никак не может и не хочет стеснить волю Марьи Дмитриевны, что ее счастье и покой для него дороже всего, и если надо, если она любит другого, если она дала слово, он готов отступить и даже всячески содействовать в ее делах и намерениях, особенно зная ее болезненность и раздражительность. Однако примириться со всем этим ему возможно только ценой неслыханных страданий, и он не в состоянии поверить, что так именно может случиться. — Не верю, не верю! — восклицал он с болью в обрывающемся голосе. Он умолял не терять веры в него, — ведь он уже на новом пути, и судьба оборачивается лицом к нему, и он вернет все свое, все ему, только ему принадлежащее.
Казалось, трещины закрывались взаимными уверениями, и впереди уже замелькали точки света, рассеивающие темноту, сгустившуюся в месяцы разлуки. Федор Михайлович заговорил о судьбе Пашеньки, которого надо, по его мнению, определить в Сибирский кадетский корпус, а это при его офицерском чине и некоторых связях с высоким начальством вполне осуществимо. Марья Дмитриевна со всей своей страстностью оценила и запомнила внимание Федора Михайловича и отпустила его с пожеланиями скорей приводить в действие все его намерения и планы. И Федор Михайлович возвратился в Семипалатинск с утешительным сознанием того, что она только всеми жесточайшими обстоятельствами была приведена к отчаянию и только на мгновенье отступила, только чуть-чуть «поколебалась» — и больше ничего, решительно ничего, но она любит его, безусловно любит и не отдаст себя никому другому, имея сердце гордое и благородное. В новой разлуке, занятый службой в батальоне, он вспоминал, как она плакала у него на груди и как обещала ждать последних его решений.
Среди множества разных дел и казенных поручений Федор Михайлович с удвоенной горячностью пристрастился теперь к писанию своего романа о селе Степанчикове, при этом старался со всей пылкостью представить давно записанные в памяти и совершенно неслыханные в литературе, даже небывалые характеры. Сердце его сильно лежало к селу Степанчикову, причем самое-то село, со всей крепостной его жизнью, со слезами исхудавших матерей и с ненакормленными детьми, как-то отступило перед подготовленными заранее образами и вполне представимыми характерами, так что всей картине чего-то не хватило до правды.
Но тут необходимо еще и еще заметить, что Федор Михайлович все более и более останавливал внимание не столько на хитро изобретаемых им событиях и приключениях, сколько на характерах своих действующих лиц и их, так сказать, внутренних идеях. Характеры людей и самые крайние, хоть и вполне возможные, степени развития их разных сторон, коими можно было бы эффектнейшим образом поразить читателей, такие именно крупно выраженные характеры занимали его еще в петербургские годы, и на них он всегда налегал, считая их важнейшей гирей на своих весах, — ну, а каторжные годы и ссылка заставили его каждодневно видеть такие примечательные характеры, узнавать их, изучать и изумляться им, и он как бы приучил себя понимать всю их причудливость и разные душевные крайности, из ряда вон выходящие. Мысль о сильно обозначенных характерах стала главной заботой в его творческих делах: их речь, их излияния всяких чувств, их споры, в коих проявлялись бы все их страсти и порывы, — вот что выходило у него на первый план: он облюбовывал эти малейшие тонкости выставляемых характеров. И сейчас, взявшись за перо, он сохранил эту свою поэтическую страсть. И в «Селе Степанчикове» обозначил два особых характера, вполне и давно им выношенных, — Фому Фомича и полковника Ростанева; первого — как давно подмеченную и уже возненавиденную им натуру человека, дошедшего до крайних и наглых степеней самомнения и своеволия, при этом основанных на открытом лицемерии, а второго — как натуру крайне противоположную, с резко ослабленной волей и как бы воплотившую в себе полное смирение и кротость — черты, им высоко в жизни уже оцененные. Да и рядом с этими выразительно представленными типами Федор Михайлович решил в большом своем повествовании изобразить еще и еще некоторые фантастически верные лица: одну генеральшу, которая совершенно уже выжила из ума и потому боготворила отъявленного негодяя и бывшего своего скомороха Фому, одну низкопоклонную фигуру дворового шута, лишенного малейшего человеческого благородства, и прочих примечательных степанчиковских обитателей, — людей довольно низкой пробы, порожденных крепостническими порядками, однако вполне подходящих для одобрения господ цензоров и никак не посягавших на правила и строгости цензуры, которой Федор Михайлович на каждом шагу опасался, тревожась, как дичь в лесу, и считая себя все еще отверженным и бесправным писателем.
Захотелось Федору Михайловичу вместе с деревенским степанчиковским мирком изобразить и нравы городского провинциального общества, им вполне узнанные в Семипалатинске, с его сплетнями и интригами, с его дворянским лицемерием и расчетами. Так в его тетрадях и на отдельных листочках появились и новые картинки жизни, вроде внезапно представившейся ему погони провинциальных мамаш за женихом для своих дочек, причем женихом оказывался некий уже совсем одряхлевший и беспамятный князь, которого «забыли похоронить».
Перо Федора Михайловича удивительно легко при этом случае побежало по бумаге, и без всяких задержек выступили лица повести, в которой решено было вслед за селом Степанчиковым и его обитателями поведать о некоем городе Мордасове и его обитателях — людях с чрезвычайно застаревшими, однако ж и своенравными вкусами, всевозможных ферлакурах[4] и ловительницах выгодных фортун. Повесть, в которой было сделано немало сатирических выводов и выражено презрение ко всякой пошлости и рутине, он озаглавил «Дядюшкиным сном» и решил обязательно приготовить ее вместе с «Селом Степанчиковым» и записками о «мертвом доме» как свои первые после ссыльных лет страницы для печати — только бы поскорее утверждались его права на печатание и журналы стали бы принимать его рукописи. А с журналами он уже начал списываться, и редакторы давно затрясли своими карманами, пообещав благороднейшим образом дать наперед поощрительные, хоть и осторожные, деньги.