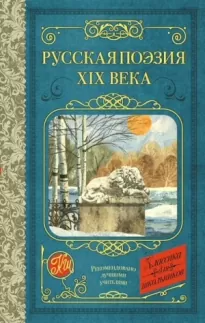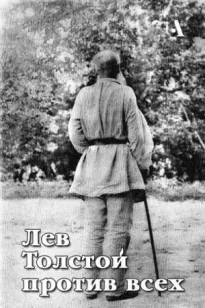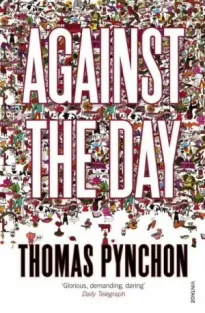Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»

- Автор: Михаил Долбилов
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»"
____________________________
Р38. Л. 75–77. Вронский после прощения его Карениным; его встреча с выздоровевшей Анной; Анна отказывается от развода, Вронский выходит в отставку, они уезжают за границу.
Р39. Л. 39 об.–41 об. Покушение Вронского на самоубийство[745]; <он причиняет себе два ранения, оба легкие> он причиняет себе два ранения, одно из которых — тяжелое.
Теперь, удерживая в памяти состав рукописей 38 и 39 и их соотношение между собою, наведем фокус на тот момент в истории писания и печатания, когда тема развода в созидаемых сюжете и фабуле обрела новую остроту.
Принципиальная новелла на последней странице рукописи 38 — введение в текст безоглядного отказа Анны от развода — едва ли могла появиться иначе чем как итог или эффект глубокой переработки предшествующей серии глав. Начальный же толчок к этой переработке финала Части 4, судя по всему, дало решение дополнить роман — совсем незадолго до публикации соответствующего журнального выпуска — сценой покушения Вронского на самоубийство. Вскоре после публикации, в конце апреля 1876 года, Толстой в письме Н. Н. Страхову, хорошо известном в литературоведении, описывал это решение как обусловленное наитием, родившееся прямо из-под пера:
Этого никогда со мной так ясно не бывало. Глава о том, как Вр[онский] принял свою роль после свиданья с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять ее и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вр[онский] стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо[746].
Стоит вникнуть поглубже в это свидетельство, которое в контексте письма единомышленнику служит иллюстрацией сформулированного словно бы тоже спонтанно тезиса о природе искусства. Толстой представляет «неожиданный» поступок персонажа «од[ним] из очевиднейших доказательств» того, что занимающие беллетриста в такой-то момент мысли составляют «сцепление», «выразить основу [которого] непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения», и что, в свою очередь, такие картины формируют тот «бесконечн[ый] лабиринт сцеплений, в котором и состоит сущность искусства»[747]. Сама фраза Толстого, где о герое говорится так, как если бы он обладал волей и агентивностью наравне со своим творцом, напоминает один из постулатов современной генетической критики, согласно которому процесс писания может управлять интенцией писателя. По словам Р. Дебре-Женетт, черновые рукописи не содержат в себе, как можно было бы ожидать, простых ответов на вопросы касательно мотивов и целей писателя: «Фабрика подчиняет себе рабочего. Это хорошо видно из рукописей: писатели — подмастерья, а писание — их мастер»[748].
Насколько подтверждают черновики подобную захваченность Толстого стремниной собственного письма? Как именно — с точки зрения процесса писания, производства текста — Вронский «стал стреляться», как проецируется это действие персонажа на поиск автором нужных мотивов, тропов, слов? Чтобы разобраться в этом, нужно присмотреться к Вронскому той редакции, где он в той же ситуации не стал стреляться, — ее-то Толстой и «стал поправлять» вроде бы еще без намерения существенно изменить. Под «давно» — относительно весны 1876 года — написанной и долго ожидавшей отделки главой, несомненно, имеется в виду фрагмент верхнего, датируемого мною началом 1874 года (и относимого к ДЖЦР) слоя автографа — уже не раз цитированной рукописи 68, прообраза кульминационной концовки Части 4. Пространная цитата из нее поможет нам объемнее увидеть, как два года спустя, на страницах беловой копии данного пассажа — и на новом витке спиралевидного генезиса этих глав — произошла новая встреча автора с героем в узловой точке повествования (более детальный транскрипт см. в Извлечении 2 на с. 271–274):
В тот самый день, как он [Каренин] переезжал [на квартиру, нанятую на время совершения развода. — М. Д.], Вронский приехал к Анне, и Алексей Александрович имел огорчение узнать, что он был тут. Узнав от Бетси, что Алексей Александрович соглашается на развод, Вронский тотчас поехал отказываться от такого [sic!] назначения, которое он себе выхлопотал в Среднюю Азию. Поступок такой прежде показался бы ему невозможен; но теперь он ни на минуту не задумался и, когда встретил затруднения, тотчас подал в отставку, не обращая никакого внимания на то, как на это посмотрят и испорчена ли или не испорчена этим поступком его карьера. Он был в отчаянии; он чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и лишенным возможности загладить, искупить свою вину. Но узнав, что она оставляет мужа и что она не только не потеряна для него, но, вероятно, навсегда соединится с ним, он от отчаяния перешел к восторгу и тотчас поехал к ней.
Вронский 6 недель не видал ее, и эти 6 недель он провел так, как никогда не жил: он никуда не ездил, сказавшись больным, никого не принимал, кроме Грабе и брата, и, как зверь, запертой в клетке, сидел в своей комнате, то лежа с книгой романа, то ходя и вспоминая и думая об одном — о ней, о всех пережитых с нею счастливых минутах и о последних минутах ее болезни, и раскаянии, и той жал[кой] тяжелой роли, которую он должен был играть в отношении мужа. Что-то было недоконченное, мучительное в этом положении, и оставаться так нельзя было, a делать было нечего. Тут брат придумал ему отправку в Ташкент, и он согласился. Но чем ближе подходило время отъезда, тем больше воспоминания прошедшего разжигали в нем страсть к ней. «Еще один раз увидать ее, и тогда я готов зарыться и умереть», — думал он. И потом он вдруг получил известие, что она оставила мужа и ждет его, как ему сказала Бетси. Не спрашивая, можно ли, когда, где муж, он поехал к ней, и ему казалось, что лошадь не двигается, что он никогда не доедет. Он вбежал на лестницу, никого и ничего не видя, и почти вбежал в ее комнату и не заметил того, что в комнате была дев[ушка], есть ли кто или нет. Он обнял ее, стал покрывать поцелуями ее лицо, руки, шею и зарыдал, как дитя. Анна готовилась к этому свиданью, думала о том, что она скажет ему; но его страсть охватила ее; она хотела утишить его, утишить себя, но глаза ее говорили, что она благодарит его за эту страсть и разделяет ее[749].
Изображение здесь того, как, по словам Толстого из письма Страхову, любовник «принял свою роль после свиданья с мужем», композиционно усложнено тем, что нарратив на протяжении двух не самых длинных абзацев несколько раз переключается из актуального плана в ретроспективный и обратно, фокусируясь то на времяпровождении, то на чувствах героя. Этот челночный рассказ описывает в конечном счете круг — мы видим, как Вронский:
— в «настоящем» нарратива — приезжает к Анне впервые после ее выздоровления, о чем становится известно и Каренину;
— смещенный во времени на (условный) шаг назад — узнает от Бетси о согласии Каренина на развод и мчится, как можно предположить, в Военное министерство (в чьем ведении находилось Туркестанское генерал-губернаторство), где успевает отказаться от выхлопотанного им себе назначения в Ташкент и тут же, словно в ускоренной съемке, вовсе подать в отставку;
— смещенный во времени еще на один шаг вспять (как если бы нарратор спохватился, что герой появляется в повествовании впервые после разговора со всепрощающим Карениным[750] и период этот в повествовании для него почти ничем не заполнен) — мучается унижением и чувством вины, вызванными непостижимым для него прощением;
— брошенный на два шага вперед, узнает — дубль нарратива, — что Анна сможет выйти за него замуж, взмывает из отчаяния к восторгу и спешит к ней;
— вновь отброшенный (видимо, семантической аурой слова «отчаяние» в предшествующей фразе) на два шага вспять — проводит после разговора с Карениным, «как зверь, запертой в клетке», шесть недель в мучительных воспоминаниях и равнодушно одобряет придуманный для него братом выход из тупика — назначение в Ташкент (сам он об этом, согласно данной ретроспекции, не хлопочет), после чего — читателю сообщается об этом уже в третий раз — получает от Бетси известие, что Анна «оставила мужа и ждет его»;
— возвращенный наконец в актуальный план нарратива — ловит извозчика, несется к Анне и врывается в ее комнату…
Самый глубокий на этой темпоральной синусоиде уход в ретроспекцию, призванную объяснить психологическое состояние героя, оказывается, напротив, чреват интригующей недомолвкой. Фраза о Вронском, погруженном в бесплодные размышления и заточенном не только в клетке квартиры, но и в клетке нерешимости: «Что-то было недоконченное, мучительное в этом положении, и оставаться так нельзя было, a делать было нечего», — звучит как памятка насчет дальнейшего развития сцены, оставленная автором в своем черновике самому себе. И в самом деле, целых шесть недель домашнего затворничества Вронского зияли многозначительной паузой — «что-то недоконченное» было в самой картине.
Добавим сюда еще одно, весьма релевантное разбираемому моменту генезиса, свидетельство того, как текст романа взаимодействовал с авторским интересом к игре случая в творчестве. В главах АК об итальянском вояже героя и героини (5:7–13)[751], написанных и опубликованных в интервале между лепкой стреляющегося Вронского и процитированным письмом Страхову, появляется примечательный персонаж — художник Михайлов, подлинность чьего дара нарратор не подвергает сомнению. В эпизоде, где Михайлов свежим взглядом смотрит на свой отброшенный было эскиз мужской фигуры «в припадке гнева», трудно не предположить отголосок собственного творческого опыта Толстого:
Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он все-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками. / — Так, так! — проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу (395–396/5:10).
Вовсе не обязательно Толстому так и виделся созданный им накануне персонаж — сотоварищ по творчеству, когда он рассказывал Страхову о том, как несколько раньше Вронский «совершенно <…> неожиданно <…> стал стреляться» (хотя дальше в этом же письме он прямо касается содержания отправленного в типографию последнего выпуска романа, высказывая опасение, не допустил ли он «ошибок по специальности», то есть в изображении ремесла живописца[752]). И все-таки сходство между пятном от оплывавшей свечи, благодаря которому фигура «вдруг» является художнику «во всей ее энергической силе» (396/5:10), и шероховатостью в черновом тексте, скрывающей в себе до поры до времени новый, энергичный сюжетный ход, — это сходство останавливает на себе внимание.