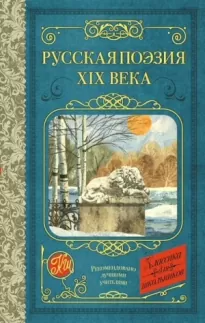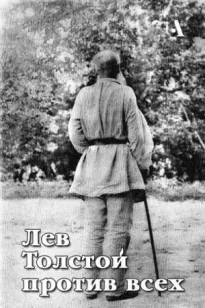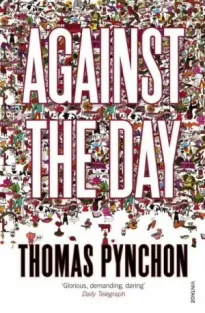Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»

- Автор: Михаил Долбилов
- Жанр: История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»"
4. Генезис полемики с панславизмом
Почти вся — начиная с исходных автографов — работа над Частью 8 романа, которую автор некоторое время хотел назвать эпилогом, пришлась на период с апреля по конец июня 1877 года (см. Табл. 3 на с. 485). То было воистину горячее время. Толстой, по всей вероятности, близился к завершению первой рукописной редакции эпилога[1007], когда манифестом от 12 апреля Александр II объявил войну Османской империи[1008]. Почти одновременно с тем, как император в конце мая отбыл из Петербурга к дислоцированной в Румынии действующей армии, расхождение между Толстым и издателем «Русского вестника» М. Н. Катковым во взглядах на «славянское дело» привело к тому, что автор АК решил забрать из журнала эпилог, набор которого с правленой первой корректуры был уже готов, и печатать его отдельной книжкой в другой московской типографии[1009]. К моменту, когда российские войска в середине июня переправились через Дунай и вторглись на османскую территорию с миссией освобождения болгар от «турецкого ига» и создания независимого болгарского государства, Часть 8 прошла или вот-вот должна была пройти очередную, теперь уже для отдельного издания, корректурную вычитку (при этом продолжая правиться и шлифоваться)[1010]. Свежеизданные экземпляры — «Есть ошибки, но издание хорошенькое», как нашел автор, — были доставлены в Ясную Поляну самим владельцем типографии Ф. Ф. Рисом 9 июля[1011], а днем раньше провалился первый из кровопролитных штурмов в скором будущем знаменитой турецкой крепости Плевна. К слову, указанием на это совпадение Достоевский хотел начать в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» свою критику финала АК, в котором его больше всего возмутило равнодушие Левина к «славянскому делу»: «[К]нижка явилась как раз за несколько дней до нашей неудачи, плачевной неудачи при Плевне <…> а потому <…> сделает свое дело <…> как раз совпадая с очень многочисленными <…> поднявшимися везде голосами на тему: „Мы говорили, мы предупреждали, мы предсказывали“ и т. д.»[1012]. Надо ли пояснять, что Достоевскому в таких высказываниях слышалось злорадство. Так как цензура предостерегала от обсуждения конкретных действий и уж тем более неудач русской армии, то процитированный пассаж из наборной рукописи выпуска не появился в опубликованном тексте «Дневника писателя».
Таблица 3. Стадии написания Части 8: апрель — конец июня 1877 года (датировки в таблице относятся к созданию автографа)
Хотя завершающий свой шедевр Толстой пристально и взволнованно следил за развитием событий, действие в главах Части 8, вобравших в себя злобу дня, четко соотносится не с годом написания, а с предыдущим — 1876-м. Писатель, по всей видимости, особо заботился о том, чтобы приметы панславистского общественного энтузиазма, еще не поддержанного открыто верховной властью, не были затемнены восприятием текста сквозь призму лишь чуть позднейшей, но уже существенно иной военно-политической обстановки. Так, если в черновых редакциях, вплоть до корректур, несколько раз встречается упоминание Болгарии/болгар, то до ОТ дошло лишь единственное употребление лексемы — всплывающее в реплике князя Щербацкого устойчивое выражение «болгарские ужасы»[1013]. Затушевка была сознательной — например, в раскрывающем воззрения Сергея Кознышева пассаже: «Резня единоверцев и братьев в Болгарии вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям, и геройство борющихся за великое дело сербов и черногорцев вызвало сочувствие во всем народе <…>»[1014] — первые слова в конце концов заменяются расширительной формулировкой: «[р]езня единоверцев и братьев славян», — тогда как следующие далее наименования «сербы» и «черногорцы» не исчезают (647/8:1). Вместе с любопытной версией концовки спора Левина с Кознышевым (подробнее о ней пойдет речь ниже) не достигли ОТ и следующие отзвуки болгарской темы: «Было решено разумом, что защитить болгар было добро, и потому война и убийство уже не считалось злом, а оправдывалось. / <…> Теперь Левину хотелось сказать: за что же ты осуждаешь коммунистов и социалистов? Разве они не укажут злоупотреблений больше и хуже болгарской резни?»[1015]
Вообще говоря, упоминания Болгарии и болгар в авантексте Части 8 не были анахронизмом: жестокое подавление Турцией болгарского восстания в апреле 1876 года (те самые «болгарские ужасы», как в Европе стали называть произошедшее после выхода в том же году памфлета лидера английских либералов У. Гладстона «The Bulgarian Horrors and the Question of the East») имело в России значительный резонанс. Сторонники преимущественной поддержки болгар даже составили внутри панславистской среды особое меньшинство[1016]. Тем не менее в течение всего 1876 года в российском образованном обществе в целом безусловно доминировал интерес к событиям не на восточных, а на западных Балканах — а именно в Сербии и (в чуть меньшей степени) Черногории, куда на войну, ведшуюся этими фактически суверенными княжествами против Турции, ехали сотни и сотни добровольцев. Конечно, в некотором смысле уже и эта война, начавшаяся через два месяца после подавления восстания в населенных болгарами землях, оправдывалась стремлением «защитить болгар» (в числе других подвластных Порте славян-христиан), но в освещении задающих тон медиа это была прежде всего война Сербии, а не война за Болгарию[1017]. Можно сказать, что Часть 8 АК в ее окончательной редакции как бы дистиллирует характерный — «сербский» — колорит 1876 года (чему не мешают некоторые частные анахронизмы внутри этого отрезка времени[1018]).
Как и в конце 1876-го, когда дорабатывалось окончание Части 5 с Карениным как духовным учеником графини Лидии Ивановны, так и в ходе работы над последними тремя частями романа в 1877 году Толстой усматривал один из истоков панславистской горячки в политическом влиянии горстки экзальтированных патрициев и особенно патрицианок. Тема фальшивого коллективного воодушевления и умствующей спиритуальности претерпела примечательную эволюцию сквозь серию черновых редакций, удерживая при этом во взаимодействии два разных плана текста — мировоззренческую телеологию произведения и претендующий на журналистскую детальность актуальный репортаж. Челнок писательского воображения, соединяющий мельчайшие нюансы мимесиса и воспаряющие дискурсивные обобщения, снует в заключительной части АК особенно быстро.
Первое прямое, пусть и мимолетное, упоминание об общественном увлечении славянским вопросом возникает уже в конце Части 6, под занавес сцен дворянских выборов[1019] и празднования победы поддержанного Вронским либерального кандидата в губернские предводители Неведовского:
В конце обеда стало еще веселее. Губернатор просил Вронского ехать в концерт в пользу братии, который устраивала его жена, желающая с ним познакомиться.
— Там будет бал, и ты увидишь нашу красавицу. В самом деле замечательно (558/6:31).
Концерт организуется губернаторшей, среди гостей ожидается, видимо, губернская львица — и все это является предметом игривых светских пересудов. В чью же именно пользу будут делаться пожертвования? Хотя написание подчеркнутого самим автором слова в черновых редакциях — и в исходном автографе, и в снятой с него С. А. Толстой наборной копии[1020] — не позволяет настаивать на ревизии его прочтения как собирательного существительного «братiя» в родительном падеже, все-таки можно предположить, что Толстой изначально имел в виду не его, а устаревшую форму множественного числа слова «брат» в родительном/винительном падеже: «братiй»[1021]. Именно таким, нарочито архаичным: «братiй славянъ» — было тогдашнее расхожее наименование, в особенности в националистически настроенной прессе, единоверцев и единоплеменников, восставших против турецкого господства[1022]. В заключительной части романа, как мы еще увидим, эту фразеологию привычно употребляет ставший панславистом Кознышев: «Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил» (675/8:15). Собственно, и слово «братия» в значении общины, содружества могло служить вариантом этого идеологизированного, с религиозным оттенком нарицания (хотя примеров его устойчивого употребления в политической риторике тех лет мне не встречалось). Концерт же под эгидой супруги губернатора — деталь значимая: благотворительные развлекательные мероприятия со сборами в пользу «братий» были одной из главных форм участия светских дам в панславистском движении[1023]. Графическая эмфаза слова в передаче диалога Вронского с губернатором указывает на, возможно, ироническое цитирование последним газетного клише[1024].
К той же особой дамской моде на славян отсылает и несколько ранее произведенная детализация портрета Лидии Ивановны: до Каренина она была платонически влюблена, в числе прочих, «в трех славян», среди которых был сам «Ристич-Куджицкий» — более чем прозрачная аллюзия на видного сербского политика, сторонника войны с Турцией за полную независимость княжества Йована Ристича (432/5:23)[1025].
Уже работая весной 1877 года над эпилогом, Толстой имел случай присмотреться к тому, как воспринимается политически злободневная тематика, абсорбируемая его романом, в ближайшем окружении горячей панславистки императрицы Марии Александровны, — и это успело оставить след в книге. Каналом информации, как нетрудно догадаться, вновь послужила переписка с А. А. Толстой, а поводом стал ее короткий комментарий, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к политике. В конце марта 1877 года тетушка писала племяннику об эпизоде, которым эффектно завершалась первая половина Части 6, вышедшая в «Русском вестнике» в январе: «А все-таки Васиньку Веселовского [sic!] не следовало высылать так бесцеремонно»[1026]. Осознавая это или нет, Толстая как бы помещала себя в реальность романного действия, очень достоверно вторя двум персонажам — старой княгине Щербацкой и Стиве, которые в своей приверженности светским правилам осуждают Левина за столь необузданное проявление ревности к молодому, красивому и при этом благопристойному гостю[1027].
Ответ Толстого, в свою очередь, напоминает неоправданной вроде бы резкостью — она прорвалась и в красноречивом подчеркивании правильного написания фамилии (мелочь, а все-таки читайте внимательно!) — не что иное как обсуждаемую реакцию Левина: «Вы говорите: В. Весловского не надо высылать. А если во время обедни придет к вам в церковь англичанин в шляпе и будет смотреть образа, вы, верно, найдете очень справедливым, что камер-лакеи выведут его»[1028]. Уподобление ревности мужа ревнованию о сакральности храма было предвосхищено уже опубликованным текстом романа — и самою поэтикой картин терзаний Левина, и такой, к примеру, его фразой в разговоре с беременной их первенцем Кити: «Ужаснее всего то, что ты — какая ты всегда, и теперь, когда ты такая святыня для меня, мы так счастливы <…> и вдруг такая дрянь…» (483/6:7).
Однако, как мне видится, в этом уподоблении был запрятан, и довольно близко к поверхности, оформившийся еще в 1876‐м и на год отсроченный упрек Александре Андреевне в религиозной непоследовательности. Фигура англичанина-туриста в православном храме не явилась из ниоткуда. В конце концов, досужее, «дрянное» иноверческое любопытство к своеобразию православия пристало бы и французу-католику, и таковое можно было бы подать даже еще более оскорбительным. Понятно, что к тому времени общеевропейский стереотип британца предполагал страсть к осмотру достопримечательностей, но, думается, таким определением национальной принадлежности воображаемого нарушителя церковного чина автор АК не только отдавал дань клише, но и специально метил в Редстока. Точнее, в симпатию Толстой к Редстоку. Александре Андреевне предлагалось осознать некую несогласованность своего восхищения спиритуалистической проповедью английского евангелика со своими же привилегированным положением и репутацией безукоризненной прихожанки первого в мирской иерархии прихода официальной церкви (отсюда и колкое упоминание камер-лакеев — англичанин в шляпе заглянул не в какую-нибудь, а в церковь Зимнего дворца). А гордость этим статусом, причудливо смешанная с пиетистским самоуничижением, сквозила в настойчивых попытках Толстой сделать племянника единоверцем по духу и букве.