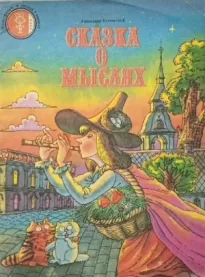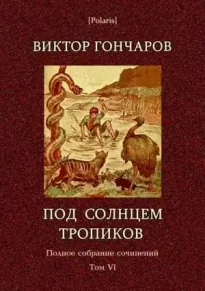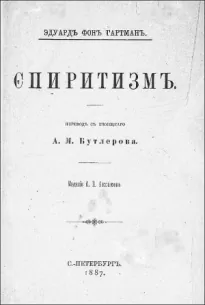Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века
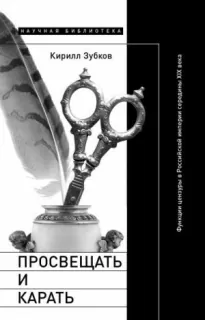
- Автор: Кирилл Зубков
- Жанр: Критика / Литературоведение / Современные российские издания / История России и СССР
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Просвещать и карать. Функции цензуры в Российской империи середины XIX века"
Возражая Райскому, голос утверждает, что создание художественного образа, которое Писарев серьезной целью не считал, всегда подразумевает превращение человека в вечную и эстетически совершенную «статую» (о теме Пигмалиона в романе см. в разделе 1). В «Обрыве» изменение эстетической теории Райского мотивировано обращением его к более актуальному жанру — роману, однако, как представляется, связано оно и с обстоятельствами создания романа.
Приведем еще один пример связи между писаревскими статьями и «Обрывом». Как говорит Райскому его петербургский знакомый Аянов в первой, ранее написанной части, «…надо тебе бросить прежде не живопись, а Софью, и не делать романов, если хочешь писать их…» (Гончаров, т. 7, с. 40). Райский выдвигает свое понимание романа, основанное на принципиальном отказе разделять жизнь и искусство: «Смешать свою жизнь с чужою, занести эту массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств… une mer à boire» (Гончаров, т. 7, с. 40). Героя при этом беспокоят те же вопросы, что и его создателя — даже слова une mer à boire (буквально — «море, чтобы выпить») напоминают приведенное в статье «Лучше поздно, чем никогда» выражение Ч. Диккенса, который, создавая романы, «„носил целый океан“ в себе»[324]. В следующих частях романа, однако, эта тема отходит на второй план, а Райский начинает всерьез рефлектировать над проблемой разграничения искусства и собственной жизни, о чем свидетельствует даже эпиграф из стихотворения Гейне «Умирающий гладиатор», выбираемый им для своего романа[325]. Так, в споре со своим эстетически очень консервативным другом Козловым Райский вновь пытается доказать преимущество романа над другими жанрами, однако на сей раз совершенно иначе:
Сатира — плеть: ударом обожжет, но ничего тебе не выяснит, не даст животрепещущих образов, не раскроет глубины жизни с ее тайными пружинами, не подставит зеркала… Нет, только роман может охватывать жизнь и отражать человека! (Гончаров, т. 7, с. 209)
Райский обращается к отношению искусства и действительности, к возможности романа отразить общество и повлиять на это общество. Едва ли можно объяснить совпадением, что тема связи искусства и «жизни» возникает в «Обрыве» именно в 1860‐е годы. Это, разумеется, не означает, что заявленная в первой части проблема связи жизни художника и его творчества из романа исчезла, но происходит заметное изменение акцентов.
В том же споре с Козловым Райский очень «по-писаревски» отзывается о поэзии: «…стихи — это младенческий лепет. Ими споешь любовь, пир, цветы, соловья… лирическое горе, такую же радость — и больше ничего…» (Гончаров, т. 7, с. 209). Пренебрежительное отношение к стихам вообще и традиционным лирическим темам в частности характерно для «реальной» критики, обычно упоминавшей перечисленные Райским образы в связи с «чистым искусством». Особенно знаменательно упоминание «соловья», ставшего для критиков радикального направления устойчивым обозначением «ложных» тенденций в современной русской поэзии[326]. Райский вообще осуждает все виды искусства, не способные передать быстрого течения жизни: «В одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь и сотой доли из того живого, что проносится мимо и безвозвратно утекает» (Гончаров, т. 7, с. 208). Имеется в виду не просто статичность живописи как вида искусства, но именно ее неспособность отражать современность. По крайней мере, именно так на слова Райского реагирует Козлов: «Не пиши, пожалуйста, только этой мелочи и дряни, что и без романа на всяком шагу в глаза лезет. <…> А то далась современная жизнь!.. муравейник, мышиная возня: дело ли это искусства?.. Это газетная литература!» (Гончаров, т. 7, с. 209). Райский, судя по его ответу: «Ах ты, старовер! как ты отстал здесь! О газетах потише — это Архимедов рычаг: они ворочают миром…» (Гончаров, т. 7, с. 209) — как раз и хочет, чтобы его роман оказался до некоторой степени близок «газетной литературе».
Таким образом, сама проблема, насколько искусство связано с текучей «современностью», возникает в «Обрыве» параллельно критике русских «нигилистов». Райский оказывается не только романтиком и идеалистом, но и — до некоторой степени и на некоторое время — сторонником теории искусства 1860‐х годов. Об этом свидетельствуют и его стремление в своем романе угнаться за современностью, и уверенность, что такое воспроизведение жизни станет серьезным, значительным действием (именно созданием произведений искусства Райский оправдывает жизнь целого класса «художников» в разговоре с «нигилистом» Волоховым — часть 2, глава XV), и пренебрежение к видам искусства, не способным решить подобные задачи.
Разумеется, Райский, думая о романе и действительности, не превращается в сторонника Писарева, — точно так же, разделяя идеи эмансипации, он не становится вторым Волоховым[327]. Гончаровский герой продолжает мыслить в категориях типов, вечных образов, сопоставлять себя и своих знакомых с Гамлетом и проч. Однако творческим успехам Райского это не способствует. Ситуация отчасти меняется в эпилоге романа, трактовку которого можно уточнить, если учесть «писаревскую» линию. Увидев своими глазами драматические события, случившиеся с Верой (об этом см. подробнее в следующем разделе), и осмыслив их, Райский отказывается от интереса к текущей современности и обретает присущую, по Гончарову, подлинному художнику способность, осмыслив прошлое, познать идеал, воплощенный в человеческой форме: «Три фигуры следовали за ним и по ту сторону Альп, когда перед ним встали другие три величавые фигуры: природа, искусство, история…» (Гончаров, т. 7, с. 772). Синтезируя «субъективный» личный опыт, о котором герой думал в первой половине романа, и «объективную» правду действительности, отразить которую он пытался во второй его половине, Райский освобождается от погони за современностью и приходит к мышлению глобальными категориями, наподобие самого автора «Обрыва». В присущей ему парадоксальной манере В. Ф. Переверзев писал: «Как раз в Малиновке Райский переживает глубокий душевный перелом <…> художник Райский станет крупным писателем-романистом Иваном Александровичем Гончаровым»[328]. Конечно, это преувеличение, но развитие эстетического мышления Райского действительно свидетельствует о приближении к творческим нормам настоящего романиста.
Таким образом, само построение романа Гончарова оказалось своего рода попыткой критиковать «антиэстетику» и защищать традиционные взгляды на искусство. Л. С. Гейро отметила: «В отличие от Достоевского, Гончаров отнюдь не был одержим „тоской по текущему“. Последней его попыткой в эпической, романной форме откликнуться на насущные вопросы современности был „Обрыв“»[329]. Действительно, в «Обрыве» поднимаются такие проблемы, как «новые люди», носители радикальной идеологии (о них писали буквально все хоть сколько-нибудь заметные писатели эпохи, от Чернышевского до П. Д. Боборыкина) и «женский вопрос» (ему посвящали свои сочинения, например, М. И. Михайлов и И. С. Тургенев)[330]. Строго говоря, даже тема художника, которой Гончаров решил посвятить роман еще в 1840‐е годы, была вполне актуальна, однако в злободневном романе 1860–1870‐х годов речь обычно шла не о дилетантах, а о профессиональных писателях[331]. Тем не менее полемика с писаревскими представлениями об искусстве была, конечно, очень злободневна. Все эти темы, однако, были подняты в романе, очень далеком от прозы 1860‐х годов, и развиты в традициях романтической эстетики, с которой боролись Чернышевский и Писарев: действие «Обрыва» происходит в неопределенном прошлом, герои почти не обсуждают актуальных вопросов, а универсальный характер ключевых образов романа прямо заявлен в финале (см. цитату выше). Написанный Гончаровым «традиционный» роман оказался способен передать серьезную общественную проблематику, которой требовали «нигилисты». Учитывая, что «Обрыв», как показано выше, создавался с учетом прозы писаревского «разрушения эстетики», эта полемическая установка может быть вполне сознательной.
Гончаров высоко ценил некоторых прозаиков 1860‐х годов, но полагал, что они способны лишь на «художественные, талантливые эскизы и рассказы, больше из быта простонародья» (Гончаров, т. 10, с. 80)[332]. Можно провести аналогию между подобными произведениями и талантливыми, но не складывающимися в единую картину «портретами», которые особенно хорошо удаются Райскому. Все темы и сюжетные линии романа соединяются воедино благодаря единой романной форме (необходимость которой так настойчиво отрицал Писарев), «структуре»[333], которая возникает за счет введения образа Райского-романиста — появляется «рама», которая «только подчеркивает границы» художественного целого[334]. Внутритекстовая структура «Обрыва» соответствует внетекстовой: точно так же, как отдельные зарисовки Райского объединены Гончаровым в роман, отдельные темы, актуальные для прозы 1860‐х годов, естественно входят в это произведение. Разумеется, такие общие принципы построения романа, как композиция, сочетание разных сюжетных линий и ориентация на пушкинский образец[335] (которую Писарев, как показано выше, усматривал еще в «Обломове» и резко осуждал), были задуманы в самом начале работы Гончарова над «Обрывом».
Тем не менее вполне вероятно, что писатель, создавая роман в 1860‐е годы, использовал эту сложную структуру в новых целях: теперь она не только интегрировала разные элементы романа, но и позволяла вести полемику с критикой, отрицавшей традиционное построение литературного повествования. В этом смысле «Обрыв» можно сопоставить с книгой Чернышевского «Что делать?» — еще одним произведением 1860‐х годов, где сама романная форма воспринимается как серьезная проблема. Если Чернышевский стремился показать несостоятельность традиционных принципов построения романа (в «Что делать?» нет даже подзаголовка «роман»), то Гончаров, напротив, пытался показать их непреходящую актуальность. Демонстрируя, что романная форма не должна быть прозрачной и фактически бессодержательной, Гончаров, с одной стороны, все же поставил искусство на службу злободневной полемике. С другой стороны, писатель сделал важный шаг в сторону романа ХX века, сделав саму рамочную композицию романа едва ли не более важным способом опровергнуть идеи оппонентов о природе искусства, чем любые идеологические споры героев или даже любимые Гончаровым «типы». «Обрыв» в этом смысле был одновременно романом принципиально старомодным и принципиально новаторским.
Оригинальное на фоне русской прозы того времени построение романа во многом связано с опытом гончаровской службы в цензуре. Знакомство со статьями Писарева произошло именно благодаря этому ведомству, а решение критиковать его не прямо, а в «художественной» форме, как мы стремились показать выше, связано с ограничениями, которые служба накладывала на возможность публично высказываться. Как мы увидим далее, этот отказ от прямого выражения своей позиции отнюдь не помешал Гончарову-романисту резко осудить «нигилистов»: роман стал платформой для публичной критики и «суда» над эстетическими и политическими оппонентами, то есть для тех форм борьбы с ними, к которым Гончаров как цензор призывал министра Валуева.