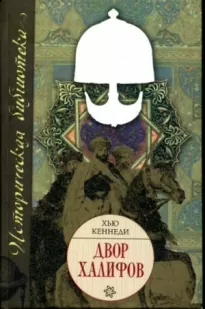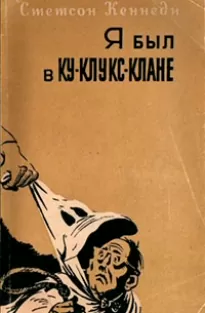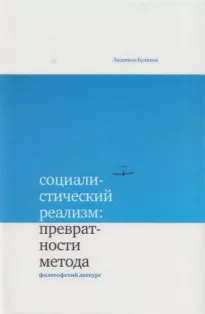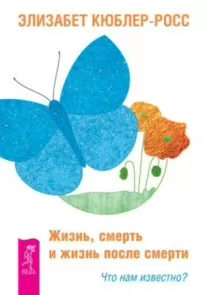Искусство на повестке дня. Рождение русской культуры из духа газетных споров
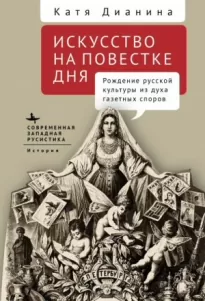
- Автор: Катя Дианина
- Жанр: Культурология / Изобразительное искусство, фотография
Читать книгу "Искусство на повестке дня. Рождение русской культуры из духа газетных споров"
В декабре 1900 года, как бы подводя итог этой тенденции, журналист и издатель Ф. И. Булгаков писал:
Теперь всего больше читаются газеты. Чтение их стало необходимостью, и нельзя отрицать того, что они быстро и зачастую добросовестно распространяют сведения, хотя и весьма отрывочные. Это чтение ежедневно сообщает что-нибудь интересное и направляет на другое чтение. Едва поднявшись с утреннего ложа, мы не можем обойтись без того, чтобы нас во мгновение ока не прокатили по Европе, Азии, Африке и Америке. Помимо того, нам желательно, чтобы распространялись и отстаивались именно наши мнения (т. е. обыкновенно предубеждения, навеянные нам посторонними). Читателям газет единственно можно было бы пожелать читать любимую их газету с некоторой критикою и чтобы они этим чтением не удовлетворялись уже до такой степени, чтобы быть неспособными наслаждаться другим чтением[221].
Растущее число газет обслуживало все более разнообразную читательскую публику. С распространением ежедневной прессы русский читатель смог также познакомиться с множеством дискурсов о национальности. Уортман пишет: «В атмосфере относительной свободы после отмены крепостного права появились выражения конкурирующих мнений о том, что представляет из себя нация». Либеральная газета «Голос», например, представляла Россию как современное национальное государство; славянофильский «День» искал истоки нации в крестьянах; «Русский мир» предлагал панславистский образ России как лидера славянства [Уортман 2004: 191]. Различные местные политические группировки претендовали на то, чтобы говорить от лица целой нации [Weeks 1996: 21]. Разные органы периодической печати, многие из которых имели явную связь с тем или иным конкретным лагерем, высказывали все эти параллельные версии национальной идентичности. Изменчивость и неустойчивость дискурса были, возможно, единственными постоянными величинами в этом калейдоскопе меняющихся позиций и точек зрения.
Любимой петербургской газетой в 1860-е годы была, несомненно, газета «Голос». Журналист «Петербургского листка» определил выигрышное положение ежедневной газеты в 1865 году следующим образом: «“Голос” более других удовлетворяет разнообразным вкусам читающих газеты и ищущих в них новостей по всем отраслям политической и общественной жизни как нашего отечества, так и иностранных государств и народов»[222]. Другой современник провозгласил «Голос» «руководящим органом русского “общественного мнения”»[223]. Ученые также характеризовали его в превосходной степени как «наиболее законченный тип буржуазно-либерального газетного органа» [Березина 1965: 47]. Газета позиционировала себя как орган, который «был создан реформой и всегда служил реформе», по выражению многолетнего автора «Голоса» Михневича. Во времена великих социальных потрясений «Голос» отвечал потребностям образованных русских ставить вопросы и искать ответы [Михневич 1878: i–ii]. Все возрастающее число подписчиков газеты говорит за себя: если в 1865 году тираж «Голоса» составлял примерно 5000 экземпляров, то в 1870 году это число выросло до 11 000, а к 1877 году оно достигло 23 000 [Есин 1971: 39]. Ключ к такому феноменальному успеху был двояким: пресловутая «коммерческая душа» ее издателя Краевского, сделавшего из литературы индустрию, и появление нового типа читателя[224].
Новая читательская аудитория массовой газеты состояла преимущественно из представителей так называемого среднего сословия. Хотя оно не являлось строго определенным классом в европейском смысле, но становилось все более заметным в русском обществе, особенно когда ежедневная пресса предоставила ему площадку[225]. «Средний читатель», за которого боролись газеты, был относительно новым социальным явлением в России 1860-х годов. Первой эту читательскую аудиторию начала взращивать «Северная пчела», удовлетворявшая интересы низших слоев чиновничества, слуг и купцов[226]. Лояльность «Голоса» к читателям из этого среднего сословия была очевидной для современников. По мнению одного из журналистов, газета была «точным снимком с нынешнего среднего, преимущественно чиновничьего, русского общества»[227]. Точно так же и газета «Сын отечества», выходившая тиражом 20 000 экземпляров, представляла своих читателей как принадлежащих к тому же социальному типу[228]. Любопытно, что газеты предполагали, что их читатели были лишь частично образованы; помимо других преимуществ, ежедневная пресса давала возможность улучшить свое образование[229]. В 1863 году на страницах еще одной ежедневной газеты, «Северной почты», появилось следующее подробное описание широкой публики:
Число читателей увеличилось… до такой степени, что не только в библиотеках, но буквально на каждом шагу вы встречаетесь с какой-нибудь газетой. Всякий лавочник и приказчик, пользуясь минутой досуга хватается за газету. В мясных лавках и даже на улицах постоянно встречаются их листы, где-нибудь на скамейке присядет с газетным листом какой-нибудь грамотей, и вокруг собирается группа слушателей. Иной с трудом разбирает текст по складам, а все-таки читает, и притом вслух. Политические известия от этого популяризируются чрезвычайно быстро и понятия читателей успешно обобщаются[230].
Новый читатель требовал нового писателя. Если журналистика традиционно была прерогативой интеллигенции, то массовая пресса была «укомплектована людьми, не обремененными интеллектуальной традицией» [von Geldern, McReynolds 1998: xviii]. Массовые ежедневные газеты, как, например, «Голос», занимали среднее положение между толстым журналом и так называемыми «народными газетами», намеренно упрощенными для грамотных крестьян и ремесленников. Эти непритязательные издания, в отличие от ежедневных газет общего характера, обычно обращались к читателю свысока, что не способствовало их популярности в социальных кругах за пределами предполагаемой аудитории[231].
Для поддержания открытого диалога между газетой и читателем издатель «Голоса» Краевский предлагал подписчикам из провинции присылать для публикации актуальные сведения, связанные с их родными городами и деревнями. Более того, он представил газету как заботливого спутника: чтобы угодить читателю из всех слоев общества, газета даже разрешала подписчикам платить в рассрочку. Краевский подчеркивал важность «деятельной инициативы самого общества» для достижения гражданского духа. Стимулирование этой гражданской активности было самопровозглашенной ролью «Голоса», который «расширил основу того, что составляло “публику”, приглашая все больше и больше разных русских объединяться в орган мнения»[232]. Современники признавали его своего рода конструктом (что всегда неизбежно). Журналист С., например, критично расценивал «Голос» как носителя «готовых “мнений”, пригодных для среднего класса людей»: «Читатели “Голоса” могут чувствовать себя свободными от необходимости размышлять самостоятельно; за них мыслит и рассуждает газета»[233]. Являясь одним из распространителей общественного мнения, «Голос» действительно отражал средний образ широкой читающей публики в России середины XIX века[234].
В своей самопровозглашенной задаче формирования и выражения общественного мнения «Голос» позиционировал себя между обществом и государством в пространстве, известном как гражданское общество, или, используя термин Хабермаса, «публичной сфере»[235]. Дух Великих реформ требовал, чтобы «“общество” было приведено в контакт со своим “правительством”, если нация хочет следовать курсу Запада после крымского поражения» [Lincoln 1990: 40]. «Голос» отвечал провозглашением «новой эпохи – эпохи согласного действия сверху и снизу»[236]. Если в России традиционно диалог между официальной и частной сферами был мало возможен, то либеральная политика сдержанности Краевского способствовала установлению своего рода шаткого равновесия между ними [McReynolds 1991: 38–39]. В эпоху гражданского пробуждения «Голос», претендующий на то, чтобы говорить от лица среднего сословия, отражал ритм стремительно расширяющейся публичной сферы. Все больше русских хотели принять участие в споре о делах своей нации, и все больше газет предлагали площадки для таких открытых дискуссий. Издатель «Санкт-Петербургских ведомостей» В. Ф. Корш уловил это общее настроение в рекламе своего издания: «Русская газета должна, прежде всего, заниматься русскими делами и интересами»[237].
В начале 1840-х годов Белинский писал: «Русская литература положила у нас основание публичности и общественного мнения» [Белинский 1953–1959, 5: 653]. В то время как литература определенно продолжала делать это и в следующем поколении, ежедневная газета все больше брала на себя ведущую роль в выполнении этого «гражданского долга». Когда в 1862 году Краевский впервые рекламировал «Голос», он недвусмысленно выразился о важной роли журналистики в обществе: «Журналистика служит у нас едва ли не единственным гласным органом общественного мнения страны и средством заявлять об общественных нуждах»[238]. Похожим образом «Сын отечества» продвигал свой новый облик ежедневной газеты, обещая читателям, что она будет «помогать выработке общественного мнения»[239]. Некоторые ученые считают, что эта тенденция была общей для всех «либерально-буржуазных» газет, которые были в авангарде в 1860-е годы [Есин 1971: 31]. Но что означало общественное мнение? И кто была эта публика? Эти вопросы не были новыми; еще Гоголь задавался вопросом, кто такая русская публика. Это занимало и Белинского, предложившего условный ответ – интеллигенция, публика, которая является «единичной живой личностью, исторически развившейся, с известным направлением, вкусом, взглядом на вещи» [Тодд 1996: 119–123].
В 1859 году журналист и идеолог славянофильства К. С. Аксаков определял культурную «публику» как полную противоположность простому народу: «Публика говорит по-французски, народ – по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ – в русском, у публики – парижские моды, у народа – свои русские обычаи»[240]. Аксаков прямо критиковал западнические тенденции, отделявшие образованную публику от простого народа. Даль также определял публику как включающую в себя «общество, кроме черни, простого народа» [Даль 1903–1909, 3: 1403]. Грамотность является маркером в этой оппозиции: читающее среднее сословие является частью общества, в то время как безграмотный народ не является. Главной предпосылкой для допуска в публичную сферу было образование, а не сословие. Другими словами, простые люди (за исключением, может быть, по оценкам, шести процентов грамотных крестьян) были риторически исключены из культурной публики, которая играла центральную роль в процессе построения нации[241].
То, что публичное мнение всегда отчасти является вымыслом, распространяемым «проводником публичного мнения», также известным как издатель, было, среди прочих, убедительно продемонстрировано Хабермасом [Хабермас 2016: 255, 326]. Но еще задолго до этого журналисты XIX века полностью осознавали его смоделированный характер. В 1826 году Булгарин впервые ввел понятие «общего мнения» – голоса большинства, который ведет толпу и управляет поведением публики – в тайном докладе государству[242]. К 1860-м годам, однако, когда на страницы ежедневной прессы вылилось множество голосов русского общества, соревнующихся за аудиторию, общественное мнение перестало быть государственной тайной. Как заявлял Данилевский, «газеты, следовательно, имеющие действительно общественное значение, суть как бы акушеры общественного мнения, помогающие ему явиться на свет Божий» [Данилевский 1995: 239–240]. Журналист С. предложил другой образ общественного мнения, которым, например, промышляла газета «Голос»: «Общественное мнение должно по необходимости облекаться в чиновничий мундир, чтобы безбоязненно обсуждать многочисленные вопросы, подлежащие обсуждению и решению в соответственных канцеляриях и комиссиях»[243]. Другими словами, общественное мнение «Голоса» отражало мнение его собственной читающей публики, по большей части мелкого чиновничества и купечества. Его конкуренты также культивировали свою собственную аудиторию: предположительно, «общественных мнений» было столько же, сколько и читающих обществ[244]. Объединяло это множество публик именно то, что они читали. Один фельетонист, кстати, вскользь приравнял «публику» к «читателям»[245].