Лиловые люпины
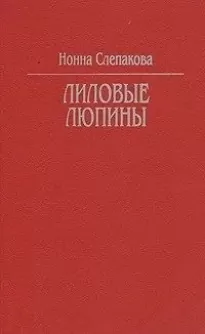
- Автор: Нона Слепакова
- Жанр: Современная проза
- Дата выхода: 1999
Читать книгу "Лиловые люпины"
— Только не вздумай, лапуленька, просить ее к телефону как Эллу Со-ло-мо-нов-ну. Она там Элла — как? — Се-ме-нов-на.
Меж тем после третьей рюмки водки глаз мой начал обвыкаться в этой примодненной комнате детства, обнаруживать в ней осколки, островки былого. Всплыл в углу замусоленный и проваленный диванчик-модерн, встроенный между двумя узкими платяными шкафчиками, который мы с коштановскими девчонками некогда, использовали как сцену, забираясь на него с ногами и давая гостям неизбежные детские «концерты», порядком им надоедавшие. Между окнами возникли две овальные картинки с приторно миловидными пастушками в золоченых рамках: тетя Люба, перепуганная денежной реформой 1947 года, «вкладывала средства» в комиссионный ширпотреб начала века, теперь звавшийся антиквариатом. От водки и воскресающих давних вещиц я рассуропилась и предалась воспоминаниям:
— А помните, как дядя Мончик пел «Ах, шарабан мой, американка»? А помнишь, Марьянка, помнишь, Ида, как нас, бывало, на площадь Труда в гастроном за лимонадом посылали? Мы купим лимонад, а сами с авоськами — через мост, к сфинксам. Неужели забыли? Еще тетя Люда вечно ругалась, что перед гостями неудобно, только за смертью нас и посылать.
Марианну и этим не удалось расшевелить, но Ида отозвалась:
— Как не помнить! Какие ты глупости тогда выдумывала, врала с три короба, а мы, дуры зеленые, верили! Будто сфинксы по ночам оживают, по городу бегают и на них можно покататься. Ты будто бы каталась!
— А вот видишь, выдумывание-то и пригодилось! — наставительно умилилась тетя Люда. — На какой — что? — уровень вышла! А ведь до чего же была неумёха, двоечница и — что? — не-ря-ха! Иголку с ниткой в руках не умела держать!
— Да, уж извини меня, Ника, — присовокупила тетя Женя, — ребенок ты была ужасающий. Помнишь, кажется, даже отца с бабушкой ногами колошматила. Теперь, наверно, жалеешь, да поздно.
— А еще до войны, Женечка, мы с Мончиком к ним приходим, я ее на колени, как путную — что? — са-жа-ю, на новое крепсате-новое платье голубое! Такую лужу напрундила, что желтое пятно так и — что? — не о-тош-ло, да и вонища неделю держалась…
Такова была третья, заключительная моя ошибка.
Я определенно не просчитала, что, тужась быть свойской и прежней, вдаваясь в трогательные подробности минувшего, могу и впрямь предстать им вовсе уже прежней и беспредельно свойской, вызову все это, такое знакомое, нацеленное, лишающее элементарного чувства юмора.
Не в силах расхохотаться над собой, прундящей на давно истлевшее крепсатеновое платье, я поднялась; меня гурьбой проводили в переднюю.
— Заходи, заходи, лапуленька, за-про-сто, и Эллочке звони!
— Обязательно загляни после следующей премьеры, — раскрыла на прощанье рот и Марианна.
…Послеразрывная, послепожаровская, послепремьерная и послекоштановская, я вернулась домой, в пустоту и гудящее ожидание своей норы, где на столике так с утра и валялась его записка — все, что осталось на память.
Телефон молчал: должно быть, все поздравители с премьерой звонили, пока я сидела у Коштанов. Оставив цветы у тети Люды, я избавилась от бессмысленного обрезывания и расстановки букетов, — только и дела, что вымыться и лечь.
Я стала наполнять ванну. Слитный ровный шум МОЕЙ, легкое пенистое шуршание шампуня. Ну, пусть у меня никого, ни их всех, ни теперь и его, есть же, слава Богу, эти уединенные и простые звуки, и еще чашка чаю на ночь, и письменный стол с пером и бумагой — для меня самой, не для любовей, не для печати, не для премьерных триумфов. Разбалтывая шампунь, я бормотала на свой старый, с 9–I привязавшийся распев:
Налью МОЕЙ, тряпье сниму
И лягу в ванну, отмокая,
А почему? А потому!
А потому, что жизнь такая!
Телефонный звонок. Явно не междугородний, но я полетела опрометью, уронив и вывалив по пути бельевую корзину.
Звонила Кинна.
Наша с ней разлука продлилась ровно двадцать пять лет без писем и звонков. Но года два назад она, наткнувшись где-то на мою публикацию и узнав в редакции адрес, прислала мне восторженную новогоднюю открытку, а потом посетила меня в Ленинграде. Оказалось, она часто тут бывает, но останавливается у новой своей подруги Тани Беловодской, живущей при муже, детях, даче, машине и частых зарубежных поездках. Там Кинне удобнее, — что беспокоить меня, известную поэтессу?
За четверть века Кинна успела выйти замуж, родить дочку Анжелу, овдоветь, вторично и неудачно вступить в брак, развестись, выдать замуж и дочь, тоже неудачно, за шизика, пытавшегося зарезать Анжелу фирменным кнопочным ножом, развести их, тяжело заболеть, вылечиться, но остаться под наблюдением врачей.
Она прогостила у меня часа два. Нам, впрочем, с избытком хватило и этого. Разговор увял сам собой после чаепития в моей неустроенной, запущенной кухне. Смолкли аханья перед моими творческими успехами, стало выясняться, что ей неловко отнимать время у такой фигуры. Киннины первоначальные представления о моей жизни очевидно не совпали с действительностью. Разок она даже вслух удивилась, как это такая величина не обзавелась тем, что есть и у простой спортивной тренерши Беловодской. При этом Кинна не упустила сообщить, что в Москве, работая техническим редактором чего-то там, она окружена обществом интеллектуалов, — замелькали имена каких-то неведомых мне дирижеров и ученых. Обещав заехать по возвращении с болгарского курорта и тогда уж вволю нагуляться по нашим местам, Кинна прочно исчезла, но, наезжая к Беловодским, с тех пор считала своей обязанностью мне позванивать.
— Ты в Москве? — спросила я.
— Нет Кинна уже в Ленинграде! — раздалось незабываемое азартное тараторенье без знаков препинания. — Я Кинна у своей Таньки ты не бойся хотя чего тебе бояться в общем тебя не потревожу. Я сюда ехала на дневной «Авроре» и проглядела по дороге уйму журналов в том числе «Юность» с твоей новой подборкой стихов там же разносят в «Авроре». Так не в обиду тебе будь сказано… Понимаешь со мной в поезде ехала Белла Ахмадулина и прошла через наш вагон такая одетая в вагон-ресторан там же в «Авроре» есть. Но кроме меня ее никто не узнал кругом ехала одна серость… Так не в обиду тебе эта подборка в «Юности» будет послабее чем твоя прошлогодняя в «Новом мире» та меня прямо потрясла!
— Ну, не знаю, — вяло попыталась защититься я, — по-моему, не лучше и не хуже, и там и там стихи одного цикла. — Я добавила, полагая, что говорю крайне ядовито, так сказать, всаживаю кинжал по самую рукоятку: — Думаю, тебе просто кажется, что печататься в «Новом мире» престижнее, чем в «Юности».
— Именно! — радостно подхватила она. — Ты Кинна молодец понимаешь как раньше с полуслова всю жизнь была умничка из самых наших умных девочек и здорово что не обиделась. А правда Кинна хороший класс у нас был?
Я побыстрее закруглила разговор, ссылаясь на усталость, и в самом деле зверскую. Но едва опустила трубку — новый звонок, опять не междугородний!
— Лапуленька, прости меня, деточка, — заскворчало в трубке, — я на секунду, напомнить, чтобы ты ни в коем случае, когда будешь звонить Эллочке, не звала Эллой Соломоновной. Только Элла Се-ме-нов-на, запомнишь, лапуленька?
— Запомню, тетя Люда, спокойной ночи, — промямлила я, повесила трубку и сразу пожалела, что постеснялась ее послать…
Я поменяла белье, улеглась. Вот же что еще остается — чистое белье в жестковатых наплывах крахмала. Как в детстве, охватив колени руками, я стала плавно погружаться — так тонет во мраке переполненный кинозал перед фильмом, ну, хоть перед «Индийской гробницей», некогда виденной с Юркой, упокой его душу…
Тут меня и ударил по уху заполошный пронзительный звонок с переливчатым междугородним треньканьем. Он!.. Нет, не он, а все та же Ляля Лонг, что первой звонила нынче утром.
— Никса, нужна помощь, — сказала она драматически угасшим, но привычно властным голосом. — Сижу сегодня после кладбища дома одна, моя Олька Рекса гуляет. Звонят. Открываю — два мужика, просятся под кран попить. Бывает, — ремонтники, у нас ведь первый этаж. Проходят на кухню, слышу, пьют. Возвращаются в переднюю, я у дверей, а у одного мой утюг. Как врежет по лицу, хорошо не по голове, раскроил бы! Нос хряснул, кровища. Я упала, они хвать с вешалки мою сумку — и вон! Не знаю, как доползла до телефона, набираю милицию, неотложку…
— Постой, Лялька, — прервала ее я, еще не отбросив поманившей было надежды, — ты откуда, почему звонок междугородний?
— Да рядом же я с тобой, в больнице на Пионерской улице. Чего ты там про звонок, наверно, здесь автомат— дерьмо, вся больница дерьмо. Стою тут на лестнице без ничего, в одеяло завернулась только, халатов у них нет, не выдали. Двушку мне одолжила соседка по койке. Вся морда у меня в кровоподтеках, и сердце что-то неважнец, как бы еще один инфарктик не схлопотать. Так вот, Никса, нужны сигареты, двушки и халат, а то завтра встать не в чем.
Не утром, так в полночь, но Лялька-таки меня доехала! Ох и вмажу я ей, чуть доберусь! Дела, надо думать, не так плохи, коли дотащилась до автомата и связно изложила разбойное нападение. Ох и вмажу, хоть и невезучая баба Лялька, вечно с ней что-нибудь, после всех-то ее мытарств! Но она ничуть не усомнилась, что я сейчас же, в первом часу, побегу к ней в больницу, не побоявшись ночной улицы. А раз так, не усомнилась и я. Собрала все требуемое, добавила мыльницу, щетку с пастой и пару яблок, кое-как оделась и отправилась.
Аэлита Лонг была принципиально несчастным человеком. Ее крах с Профессором, ее нынешняя уголовщина — все это необычайно ей подходило. Но не будь даже столь мощного набора бед, напротив, сорви кто-нибудь звезды небесные и увешай ими Ляльку, она живо сыскала бы себе неизбывное горе в том, что у кого-то на одну звездочку побольше. За это я и жалела ее сильнее, чем за сами несчастья, из-за этого и бесилась три остановки от дома до больницы, катя на последнем, удачно подвернувшемся трамвае, совершенно пустом и особо гулко звенящем.
Про больницу на Пионерской в районе говорили «хуже некуда». Я еле нашла приемный покой в путанице темных двориков, трухлявых пристроек и наглухо забитых досками дверей. В ослепительном голом свете приемного покоя, среди замызганных кафельных стен сидела молодая, до бесцветности вытравленная бешеной перекисью врачиха в белой твердой ермолке.
— Аэлита Васильевна Лонт? — переспросила она, роясь в каких-то затрепанных ведомостях. — А, это которая избитая и предик?
— Что такое «предик»?
— Предынфарктное состояние. Ага, предик в двенадцатой палате, вторая хирургия.
Мне преградили дорогу две здоровенные санитарки, вытащившие из грузового лифта на носилках нечто неподвижно вытянутое, по изящным очертаниям укутанной в простыню головы — женское.
— Девчата! Вам что об стену горох! — сердито крикнула врачиха. — Сколько говорено — через приемный не носить, запаска на то есть! Тут сопровождающие лица!
— Да что, Марь Санна, ночь сейчас и лифт пустой! Колхозницы мы вам — через запаску, такую даль трупаков переть?
…Когда я добралась до двенадцатой палаты, Лялька лежала пластом, бледно-желтая, в лиловых кровоподтеках. Под голубоватым ночником палаты стало особенно заметно, что ее былая романтическая седая прядь солью рассыпалась по всей голове, а большое тело, абсолютно голое под тощим одеялком, расплылось в бока. «Вмазывать» не приходилось, и я придала лицу жалостливую наморщенность.





