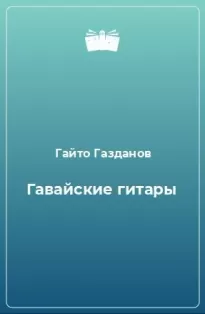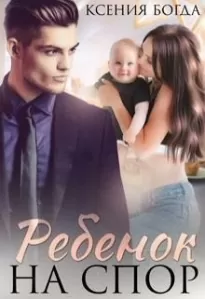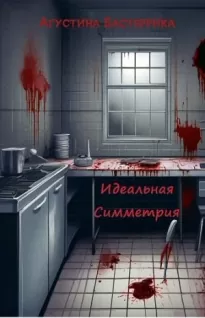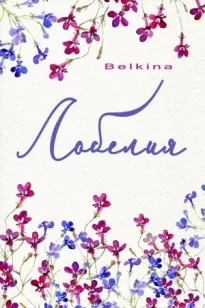Комендантский час
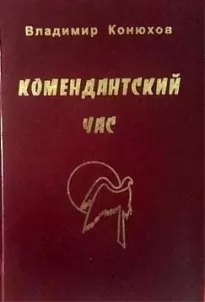
- Автор: Владимир Конюхов
- Жанр: Современная проза / Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 1998
Читать книгу "Комендантский час"
В новочеркасский собор идут люди… Покидают его внутренне собраннее, чуточку увереннее. Эта приподнятость всегда внове, и не может притупиться. Она заставляет по-иному посмотреть на себя. Мы ведь многое стараемся не замечать. Но можем ли и смеем ли все время молчать? Особенно ныне.
…Отсюда, с притвора, что вдоль западной стороны собора, все видится совсем иначе.
Таяние снегов прошлого не означает конец «вечной мерзлоты». Но и сквозь источённый лучами перестройки верхний слой «ледника» обнажились острые грани проблем сегодняшнего Новочеркасска.
Освещение событий 1962 года после долгих лет замалчивания взбудоражило население. К сожалению, местные и центральные газеты, выступив смело (хотя и на уровне «Мурзилки»), даже не обозначили сложные общественные процессы, характерные для начала шестидесятых. А это очень важно, потому что народ, уверовавший после XXII съезда партии в торжество справедливости, столкнулся в шестьдесят втором с привычной бездумностью и хамством местных бюрократов.
Как ни парадоксально, но демократическая позиция правительства, честно объявившего о повышении цен, оказалась не принятой широкими слоями. Люди, привыкшие в своем большинстве к неприкрытой лжи, оказались не готовы к правдиво-суровой действительности. Безусловно, можно было все преподнести иначе, сопроводив шумной трескотней восхваления очередное «достижение». К чести тех, кто стоял тогда у руля, на это не пошли, как не пошли на то, чтобы пресечь ядовитый слушок: «при НЕМ-то все дешевело»…
И при «родном отце» скрыто, но повышались цены. Ежегодный сталинский заем, не говоря уже о налогах, по своей изощренности превосходившие эпоху крепостничества, лишнее тому подтверждение.
Искать виновных, не объяснивших прописные истины сбитым с толку рабочим, безнадежно, гораздо важнее обратить внимание на тех, кто скрывает их и поныне. Кто, как не они, замалчивают, что цена того же мяса в 1962 году стала выше лишь на 30–40 копеек, а не на 150–200, как в семидесятые (естественно, не в государственных магазинах, где оно исчезло за одну ночь, а в госкооперации, куда перекочевало странным образом); они же лишний раз не подтвердят, что питательные свойства и вкусовые качества тогдашних молочных и мясных продуктов были не в пример выше, чем стали при «дорогом и любимом»; не кто иной, как они вешают на грудь Леонида Ильича (мало ему других наград) едва не медаль за «гуманизм», дескать это он отпустил до 50-летия Октября участников июньских событий… Знают ли те, кто вышел тогда из лагерей, что, будь его воля, он со своими соратниками законопатил бы их обратно в Джезказган или в район падения тунгусского метеорита. Не восстановление законности было нужно новоявленному вождю, а очернение прежнего руководителя страны… Результаты невиданного в истории культа невольно испытали и те, кто возвращался, и те, кто шел на их место.
Безусловно, памятный знак погибшим в 1962 году нужен. Но гораздо важнее он в память о неизмеримо больших жертвах с октября семнадцатого по март пятьдесят третьего. Возможно, тогда и призадумаются сторонники «жестокого курса», намеренно выделяющие из всех бед Новочеркасск-62 — мол, при НИХ такого не было… Да случись это при «НИХ», новочеркасцев неминуемо постигла бы участь народов Северного Кавказа. Чего-чего, а опыта в этом не занимать… Но не внимают разуму недалекие злопыхатели. Вот уж кому куцая гласность развязала языки. Как подробно, на пониженных тонах объясняй они совсем недавно причины исчезновения очередного товара, как льстиво улещали недовольных. И как громогласно трубят сейчас о нехватке всего, будто не знают о неразгруженных составах и судах. И будут кричать, пока у нас во всеуслышанье не подтвердят, что саботаж нынешний и начала шестидесятых — звенья одной цепи… Новочеркасск помнит, как торговали очищенным без кожуры (много ли его возьмешь?) картофелем, а на базах он гнил тоннами; помнит перебои с белым хлебом, хотя муки в городе было вдоволь — откуда бы взялись душистые караваи и сдобные булочки, вдруг посыпавшиеся, как из рога изобилия, в один октябрьский день 1964 года? Не забыл, как тотчас повеселел загрустивший было аппарат — и не в связи с победой наших олимпийцев в далеком Токио… Испытает ли он радость еще раз, или так и будет находиться в приятном предвкушении?!
Мы сами, вольно или невольно, душим все нововведения. Мы выставляем непомерно большие претензии перестройке, забывая, что она еще в люльке и над ней надо агукать, ублажая погремушкой обещаний… И пока что наш нещадно скрипящий хозяйственно-экономический воз не движется, а сползает с того крутого склона перемен, одолеть который ему надлежало.
Но и «пересеченная местность» застоя не сулит нам спокойной жизни. Быть может, прежде чем рисковать, следовало бы пересесть не в тихоходный «тарантас» реформ, а в быстроходные «дрожки» реального хозрасчета, в иные годы и выносившие из беды?..
Схожесть всех культов в их долгожительстве. В самом же понятии «оттепель» присутствует как бы первоначальная суть природного явления: кратковременное повышение температуры средь зимы… Подверженность нашего общества таким явлениям становится закономерной. Разница лишь в том, в какой части державы свирепее «холода» и продолжительнее «тепло»… Атлас страны с рисунком гор, пятнами морей и точками городов много говорит нашему совестливому воображению. Не «повезло» Украине, «получше» Белоруссии, не могут «пожаловаться» Прибалтика и Сибирь, «похуже» Кавказу и уж совсем «невмоготу» Дону, чьи температурные «изотермы» всегда резко колебались.
Пенза, Саратов или Дрогобыч гнет мстительно карательной системы испытали на полтора-два десятка лет позже, чем мы. В отличие от нас, в Киеве, Ленинграде и Минске теплые «пассаты» «Пражской весны» смягчили трескучие морозы застоя вплоть до семидесятых годов. Грозовой фронт «Варшавского лета» задел своим краем вначале восьмидесятых Москву, Прибалтику и Западную Украину… Но кто виноват, что над «погодной» картой Ростовской области не ломали головы высокопоставленные «синоптики», с тревогой следя за приближением очередного политического циклона? Кто ответит, что с нами не считались и не считаются, когда создаются, нарушая сложившийся тысячелетиями природный баланс, «колхозные» моря размером с европейское государство, когда глумятся над землей, отравляя ее ядохимикатами, когда сознательно, ради сиюминутной выгоды, губят реки? Пренебрежение к Дону и его жителям не закончилось пуском ГРЭС под Новочеркасском; на очереди теперь атомная электростанция на берегу Цимлы. Видимо, в чьих-то разгоряченных головах крепко сидит идея «полного» расказачивания, проявившаяся еще в далеких девятнадцатом и двадцатом… Тот вихрящийся огненным смерчем геноцид сравним разве с кровавым нашествием Батыя и Чингисхана. История, к сожалению, не соизмерила случившееся, как измерила на весах горькой справедливости Фергану или Чернобыль… И в то же время мы сочувствуем тувинцам и хакассцам, нанайцам и калмыкам, хотя эти народы России вместе взятые намного уступают числу казаков, сложивших головы на Дону в годы террора.
Ужас перед Сонгми и мытарствами палестинских беженцев меркнет перед свидетельством очевидцев, как в студеную зиму тридцатого так называемых раскулаченных запирали раздетыми в Троицкую церковь, где они умирали в холоде и голоде. Остекленевшие трупы грузили на сани, а в церковь загоняли другую партию крестьян… И это не самый леденящий душу факт в кровавой череде репрессий… Заметая следы, церковь взорвали, а в семидесятые не нашли ничего лучшего, как поставить на ее месте стелу Подтелкову и Кривошлыкову.
Воспевая свое бескорыстие и милосердие к другим народам, мы глухи к страданиям и заботам собственного и, прежде всего, южнорусского. Так искренни ли мы тогда?. Иван, не помнящий родства, крепко сидит в каждом из нас. Неужели не школьник, а человек средних лет, глядя на еще уцелевшее займище вокруг города и обращая внимание на своеобразную планировку улиц, не задумывается о том, всегда ли они носили имена Урицкого и Свердлова, Ларина и Ленина, не двух или трех, а сразу 26-ти (?!) бакинских комиссаров?.. Исконные названия улиц предавали забвению, с издевкой присваивая имена тех, по чьей указке чинили расправу над мирным населением… Так безвозвратно теряется наше главное достояние — память.
В последнее время, наряду с привычно плохим, в Новочеркасске было и хорошее. Сформирован и действует городской экологический Комитет. Намечено открытие по её прямому назначению Михайловской церкви. Принято долгожданное решение о воссоздании памятника Платову на прежнем месте и в прежнем виде.
…Новочеркасску — «особый статус приоритетного города по экологии!»… Именно так прозвучало на городской сессии народных депутатов. Ведь производя столько продукции на экологически грязных предприятиях, город не имеет никаких преимуществ.
С 1987 года, когда официально (с опозданием, по меньшей мере, на двадцать лет) началась борьба за улучшение биосферы, практически ничего не сделано.
По официальным данным — конечно, полная идиллия… 86 % выбрасываемых вредных веществ якобы улавливаются и лишь 14 % (а это свыше двухсот тысяч тонн!) уходит в атмосферу. По данным Комитета — количество источников выделения вредных веществ, оборудованных очистными сооружениями, не превышает 40 %. Получается, что якобы даже малое количество очистных сооружений улавливает почти все вредные выбросы. Тогда, следуя логике Комитета, стоит их только увеличить на несколько единиц — с загрязнением среды будет покончено.
И вдруг Новочеркасск, официально не фигурирующий ни в первой, ни во второй сотне наиболее загрязненных городов страны, «обнаруживается» в числе семидесяти девяти (!) особо неблагополучных… Успокоительные проценты оказались неподтвержденными объективным набором данных Госкомгидромета.
Новочеркасский же Комитет не успевает объяснять горожанам, имевшим неосторожность спать с открытой форточкой, дескать, никаких выбросов ночами нет. Не отвечать же им, что до «вчерашней» ночи ветер дул с другой стороны, и поэтому жители такой-то улицы ничего не чувствовали… А если ветер не изменится ни сегодня и ни завтра?
Наши близорукие «фенологи» какое уж десятилетие твердят, что, мол, зимой завывают пробирающие до костей северные ветры, а летом несут «пылячку» сухие и жаркие южные.
Утверждать так, значит, согласиться, что Аральское море плещется в прежних границах, а наше Азовское — как и прежде — способно прокормить целый континент.
Начиная с шестидесятых — всё как раз наоборот. С апреля по сентябрь преобладают северные и западные ветры, а с октября по март — южные. Поэтому в холодное время года и можно «дыхать», ибо резкие южные ветры уносят от города всю гадость… Весною и летом чуть веет некогда наводивший страх «сиверко», но и этого достаточно, чтобы газы и дымы тянулись на город… Легендарный «астраханец» летом — как ни странно — крайне редко стал напоминать о себе. Вот почему Новочеркасская ГРЭС сегодня — менее опасное зло, хотя потенциальная угроза, таящаяся в ней, несомненна.