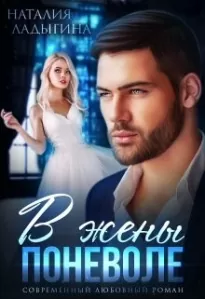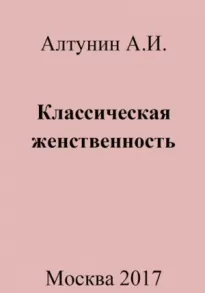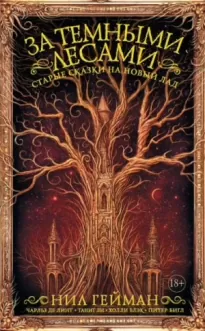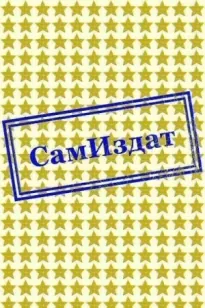Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934
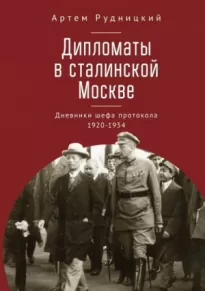
- Автор: Артем Рудницкий
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934"
Свидетельство Дмитриевского: во время встречи вновь прибывших зарубежных послов Флоринский «выглядит озабоченно и торжественно – и обязательно облекается в военную форму. Он не военный, конечно, но Реввоенсовет Республики разрешил ему ношение формы войск его охраны. Зачем? – Для удобства»[161]. Иностранцы по-разному реагировали при виде дипломата в подобном облачении. Одни пожимали плечами (мол, чего только эти русские не придумают), других это забавляло, а третьи, особенно дамы, воспринимали как дурной вкус. «На мистере Флоринском… была простая и грубая солдатская форма», – прокомментировала Элизабет Черутти внешний вид шефа протокола, встречавшего ее с мужем. И удивилась, что советскому дипломату не смогли подыскать «более приличный костюм»[162].
Угодить венгерско-итальянской аристократке и красавице было нелегко, это понятно. Но сохранились фотографии, на которых Флоринский щеголяет в красноармейской форме. И видно, что сидит она на нем отменно, и шеф протокола держится уверенно и молодцевато. По словам Владимира Соколина, для полноты картины Флоринский даже раздобыл шпоры и, звякая ими, шествовал по улице, к изумлению прохожих[163].
А вот на Чичерине форма сидела мешковато, что заметно даже на фотографиях.
В таком облачении нарком и шеф протокола встречали и провожали высоких гостей, участвовали в официальных церемониях. На вечерние приемы или дружеские встречи с дипломатами они все же надевали фраки, смокинги или темные костюмы.
Если военный мундир был «палочкой-выручалочкой» для Москвы, то в иностранных столицах полпреды и сотрудники миссий не могли появляться в хаки, это вызвало бы ненужные пересуды и даже скандалы. За рубежом военная форма оставалась прерогативой военных атташе. А гражданским дипломатам волей-неволей приходилось облачаться в традиционное официальное платье. И нужно сказать, они довольно быстро научились это делать.
Матвей Ларсонс, успевший после революции поработать в ряде советских загранпредставительств, рассказывал, как изменился Николай Крестинский, бывший адвокат, сделавший в двадцатые и тридцатые годы завидную карьеру – полпреда в Берлине и заместителя наркома иностранных дел. В пору гражданской войны и военного коммунизма, «когда котелок, воротник и обычное гражданское платье вызывали всяческое издевательство», Крестинский, привыкший к фраку и адвокатской мантии, «совершенно изменил свой внешний вид». Появлялся в «плоском картузе и бесформенном пальто». В 1921 году в Берлине Ларсонс помогал ему (тогда занимавшему должность наркома финансов) и Александру Цюрупе (наркому продовольствия) приодеться и повел их в магазин готового платья. Там высокопоставленные советские функционеры продемонстрировали скромность и «купили готовые дешевые костюмы из простого материала». Предложение Ларсонса шить на заказ отвергли. Цюрупа сказал, смеясь: «Для Москвы это достаточно хорошо, для Москвы это даже слишком хорошо»[164].
Цюрупа как был, так и остался предельно скромным человеком, а Крестинский – еще раз употребим выражение Ларсонса – поддался «сладкой отраве роскоши». Он «наверное бы от души посмеялся, если бы кто-нибудь поздним летом 1921 г., когда баварская полиция выслала его из пределов Баварии, предсказал, что он во фраке, в цилиндре и лакированных ботинках на гладком паркете салона в обществе, отнюдь не настроенном на коммунистический лад, будет расточать любезности и вести салонные разговоры, а что его жена в качестве doyenne на торжественном приеме будет шествовать под руку с президентом германской республики»[165].
Такие перемены происходили не только с Крестинским, как говорится, положение обязывало, без светских манер невозможно было продуктивно общаться с иностранными коллегами и проводить дипломатическую линию в интересах своей страны. Это было как раз то, чего добивался Дмитрий Флоринский.
Своей установке на «необходимый минимум» он следовал все 14 лет своей службы в НКИД, хотя на практике советская дипломатия постепенно отходила от простоты и скромности и все больше тянулась к парадности, эффектности и блеску. Это был закономерный процесс, отражавший эволюцию государства в сторону тоталитарного режима с претензиями на имперское величие. Для сталинской державы были крайне важны внешний шик и демонстрация своего могущества, в том числе посредством пышных приемов, роскошных интерьеров официальных помещений с позолоченной мебелью, особых церемониалов и т. п.
Наверняка Флоринский наблюдал ростки этих новшеств, но проявлял осторожность и подчеркивал свою приверженность «идейному» подходу. Уже на закате своей карьеры, в ноябре 1933 года, сопровождая турецкого посла Хуссейна Рагиб-бея (в то время дуайена дипкорпуса) на дачу к наркому обороны Клименту Ворошилову, он говорил так: «…в наш трезвый деловой век изощренности дипломатических форм повсеместно отмирают и во всяком случае играют гораздо меньшую роль, чем раньше; отходят в область истории как золотые кареты, так и напыщенное манерничанье старой дипломатической школы. Совершенные способы передвижения вытесняют неудобные цилиндры, пиджак постепенно заменяет фрак; даже в Женеве отменен обременительный обмен визитными карточками. …для Совпра[166] решающее значение имеет содержание, а не вопросы формы… Мы идем по пути максимального упрощения церемонии и этикета…»[167].
Внедрение в жизнь упрощенного красного протокола оказалось делом не простым. Никакого письменного общедоступного регламента по этому поводу не издавалось (который можно было бы разослать в иностранные миссии в Москве), а инструкция Флоринского, как уже отмечалось носила внутренний и секретный характер (вообще, в советских ведомствах, включая НКИД, секретили все что можно). Поэтому многие протокольные решения принимались ad hoc, в зависимости от фантазии и предпочтений протокольщиков. Это зачастую ставило в тупик зарубежных дипломатов, и Флоринскому приходилось всякий раз объясняться. Когда в мае 1925 года он получил запрос от китайского посольства о том, каких же протокольных норм предлагает придерживаться НКИД, то ответил, что в наркомате «существует лишь сравнительно недолгая практика, отнюдь не носящая абсолютного характера и способная подвергаться изменению в отдельных случаях»[168].
В 1921 году латвийский посланник Эрик Фельдманис сокрушался, что на церемонии вручения верительных грамот председателю ЦИК Михаилу Калинину «не смог представиться в”национальном костюме”», так как тот еще не был готов. А Калинин принял его обычном костюме и подкупил своей крестьянской скромностью. Фельдманис «выражал изумление по поводу той простоты, с которой его принял тов. Калинин и отсутствия торжественности. На это он получил ответ, что старые приемы не существуют более в России и что надо надеяться, что и другие народы откажутся от ненужных церемоний и последуют в этом отношении нашему примеру»[169].
Прочие послы и посланники тоже, в общем, не возражали против «московских правил игры». В мае 1926 года после вручения грамот тому же Калинину греческий посланник Пануриас похвалил Протокольный отдел за «наиболее простой и приятный церемониал», лишенный всякой вычурности и ненужных потуг»[170].
Тем не менее, само по себе вручение верительных грамот выглядело достаточно торжественно (в Большом Кремлевском дворце, в присутствии членов Президиума ЦИК, а также Чичерина), о чем упоминал Карлис Озолс, прошедший через эту процедуру осенью 1923 года[171].
Мнение Озолса совпало с тем, что писал Дмитриевский:
«Сотрудники Наркоминдела проводят их (иностранных послов – авт.) в приемные покои, где дожидается в темненьком пиджачке маленький и недовольный тягостным для него церемониалом Калинин.
Надо отдать ему справедливость – он держится прекрасно. Немного смущается вначале, когда читаются официальные послания, морщится, потом это проходит. Он прост – и располагает к себе.
Разговор обычно длится недолго – тем более, что с иностранцами, не говорящими по-русски, разговор ведется через переводчика»[172].
В отличие от Калинина, нарком иностранных дел легко переносил официальный церемониал, к которому был приучен еще до революции, но с той же легкостью нарушал классические протокольные нормы – исходя из политических соображений или обыденных представлений о вежливости. В июне 1927 года он первым нанес визит вежливости итальянскому послу Витторио Черутти, это было нечто неслыханное. Причина заключалась в том, что, когда посол приехал в Москву и вручал верительные грамоты, нарком отсутствовал, кроме того, Чичерин хотел показать всю важность Италии для СССР. 1-й секретарь итальянского посольства Пьетро Кварони сказал Флоринскому, что Черутти польщен вниманием Чичерина, и получил такой ответ: «…любезность т. Чичерина показывает, что мы желали бы строить наши отношения с иностранными представителями на основе сердечной учтивости, а не архаических условностей. Т. Чичерин приехал позже Черрути и наносит первый визит, стремясь возможно скорее возобновить отношения с Послом и засвидетельствовать свое почтение старшей даме дипкорпуса»[173].
Вдохновленный успехами, Флоринский писал, что модернизация протокола отвечает «строю нашего Советского Союза»; в то же время она «всецело в интересах самих иностранных представителей, освобожденных в нашей стране от выполнения отживших старомодных церемоний, утомительных и никому не нужных»[174]. Кое-кто из иностранцев с ним соглашался.
Зарубежные дипломаты привыкли к тому, что глава государства появлялся на официальных церемониях в пиджаке и сами начали ценить «простоту нравов». В начале 1930-х годов 1-й секретарь британского посольства Бейкер отмечал в беседе с Флоринским, что «либеральное наше отношение к костюму делает весьма приятной жизнь в Москве, освобождая дипломатов от обязанности носить, особенно летом, в жаркую погоду, неудобное платье. Разгрузка от нелепых условностей ценна людям, дорожащим своим комфортом и удобством жизни»[175]. Впрочем, не все с ним были согласны. Флоринский регулярно подчеркивал, что он «…ведет пропаганду за изъятие фраков из московской практики, но до сих пор, к сожалению, большинство членов дипкорпуса еще до этого не дошли и держатся за фраки»[176].
В целом изжить «старомодные церемонии» оказалось делом невероятно трудным, и даже Рагиб-бей, хваливший Флоринского за «революцию в протоколе», когда доходило до дела, вел себя вполне консервативно и даже ретроградно. 13 февраля 1933 года его, как и других членов дипкорпуса, пригласили в Большой зал консерватории на концерт, посвященный 50-летию со смерти Рихарда Вагнера (отношения с гитлеровской Германией еще не успели настолько ухудшиться, чтобы произведения любимого композитора фюрера вычеркнули из советского репертуара). Рагиб-бей возмутился тем, что ему, дуайену, дали место в четвертом ряду, а германского посла посадили в первом, рядом с главами итальянской, чехословацкой, австрийской миссией. Там же нашлись места и для менее сановитых дипломатов[177]. Естественно, Флоринскому пришлось извиняться.
Чтобы представить себе всю бурю эмоций, вызывавшихся в советском обществе проблемой одежды дипломатов и дипломатического этикета, полезно ознакомиться с дискуссией, которая велась на страницах газеты «Вечерняя Москва» и других газет в середине 1920-х годов. В ней приняли участие ведущие сотрудники НКИД и известные общественные и государственные деятели: Максим Литвинов, Федор Ротштейн (первый полпред в Персии, член Коллегии наркомата и ответственный редактор журнала «Международная жизнь»), журналист и публицист Лев Сосновский, полпред в Афганистане Федор Раскольников, полпред в Швеции и Италии Платон Керженцев и, конечно, сам Флоринский. Это настолько колоритный и показательный источник, что совершенно не хочется «раздёргивать» его на отдельные цитаты, он заслуживает того, чтобы привести его полностью – это сделано в приложении к основному тексту книги. Добавим, что указанный материал ввели в научный оборот сотрудники Историко-документального департамента МИД России, наряду с другими редкими документами, связанными с деятельностью НКИД и его главы Г. В. Чичерина.