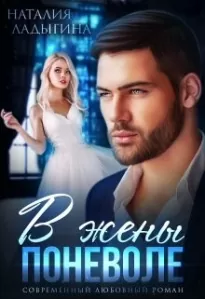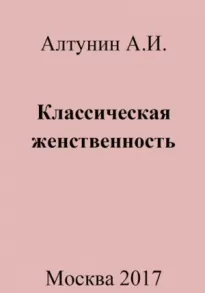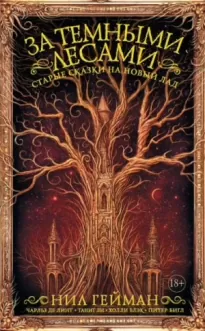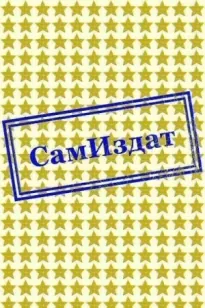Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934
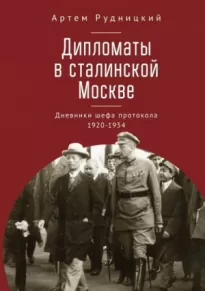
- Автор: Артем Рудницкий
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934"
Дела церковные
Приведем другой пример того, как коммунистическая идеология мешала нормальной дипломатической работе. В данном случае свою роль сыграла антицерковная политика большевиков. Это ставило советских дипломатов в особое положение, поскольку многие официальные мероприятия за рубежом с приглашением дипломатов так или иначе были связаны с религиозными обрядами. С точки зрения здравого смысла участие в них представителей социалистического государства можно было рассматривать как вынужденную дань условностям, не наносящую большевикам никакого репутационного ущерба. Но в стране, где правил режим, ожесточившийся и озлобленный в результате событий революции и гражданской войны, где священнослужители рассматривались как заклятые враги народа, здравый смысл «отдыхал».
Многие в советской правящей верхушке чувствовали, что создавшаяся ситуация нелепа, ведь она способствовала изоляции полпредств в стране пребывания, а во многих случаях к ним и без этого относились с предубеждением. 12 января 1926 года Коллегия НКИД все-таки решилась на некоторое послабление, постановив, «что полпреды не присутствуют на церковных церемониях, но могут принимать участие в похоронах членов иностранных правительств»[217]. Тем не менее, вопросы постоянно возникали.
В январе 1926 году в Японии умер премьер-министр Като Такааки, и Виктор Копп, в то время полпред в Токио, запросил: может ли он участвовать в церемонии прощания в буддийском храме (на сами похороны дипломатов не приглашали). В НКИД подумали и решили, что «означенная церемония не должна рассматриваться как церковная» и Коппу надлежит принять в ней участие[218].
В декабре того же года года умер японский император Ёсихито Тайсё, и в Москве вновь со всей серьезностью рассматривали вопрос (причем на самом высоком уровне, в Политбюро) об участии в похоронах, организованных по религиозному обряду. Положительное решение приняли с любопытными оговорками, обусловленными идеологическими соображениями. Григорий Беседовский (Копп тогда уже отбыл из Токио, и Беседовский являлся поверенным в делах) вспоминал:
«Смерть императора Ёсихито, в конце 1926-го года, поставила и перед советским правительством ряд вопросов формального этикета. Надо было решить, пошлет ли советское правительство на похороны своего специального посла, как другие правительства, будет ли возложен венок на могилу императора, примем ли мы участие в религиозных церемониях во время похорон и т. д. Все эти вопросы были разрешены Политбюро в положительном духе: в Москве чересчур дорожили хорошими отношениями с японцами в момент развития китайской революции и готовы были пожертвовать обычной формулой пренебрежения к буржуазному и придворному этикету. Я получил телеграмму из Москвы с сообщением, что Центральный исполнительный комитет назначил меня чрезвычайным послом на похоронах японского императора. Специальным постановлением Политбюро мне разрешалось “принимать участие во всяких церемониях, связанных с похоронами, но вести себя так, чтобы в рабочих массах Японии не возникло представление о нашей чрезмерной угодливости в отношении японских императоров”. Практически это постановление означало, что, если какому-нибудь предприимчивому фотографу удалось бы сфотографировать мое участие в религиозной процессии и такая фотография вызвала бы скандал в коммунистических кругах, мне пришлось бы расплачиваться за ловкость фотографа. Было решено также возложить венок с советским государственным гербом на могилу императора, но при этом рекомендовалось “не грапировать на герб надписи 'пролетарии всех стран соединяйтесь'”. Мне оставалось только подчиниться такой целомудренной стыдливости Сталина, и венок с советским гербом, без надписи “пролетарии всех, стран, соединяйтесь”, остался на могиле японского императора, как памятник сталинского лицемерия»[219].
Участие в похоронах императора прошло для Беседовского без неприятных последствий. Но в Москве Сталин, тем не менее, попенял ему за отклонение от «пролетарской дипломатии». Такой термин использовал Сталин, недовольный тем, что Беседовский слишком уж сближался с японцами, в особенности, с заместителем министра иностранных дел Кацудзи Дебучи. «В международных отношениях и дипломатической работе, – говорил Сталин, – нужно показывать больше твердости и настойчивости, иначе вы легко поддаетесь влиянию окружающей вас, по существу, враждебной нам среды. Вас обволакивали лаской и вниманием, которые вы принимали за чистую монету, а не за технический прием в работе японской дипломатии. Я знаю, что вы были очень близки с Дебучи и при этом вели себя даже не вполне тактично с точки зрения требований, предъявляемых к пролетарской дипломатии. Вы чересчур афишировали свою личную дружбу с представителями буржуазной дипломатии, что не могло не компрометировать вас в глазах японского пролетариата»[220].
А 16 февраля того же, 1926 года полпред в Литве Сергей Александровский уклонился от присутствия на торжественном богослужении, на котором присутствовал весь дипкорпус. Между тем, отмечался литовский национальный праздник, День восстановления государства, и отсутствие главы советской миссии, конечно, восприняли как faux pas[221]. Понятно, что государственные интересы СССР от этого не выиграли.
Михаил Кобецкий, полпред в Дании, с извинениями сообщал, что в Копенгагене «ему пришлось присутствовать на церковном обряде на погребении королевы-матери»[222]. Судя по всему, деваться было некуда, хотя в религиозных пристрастиях этого человека обвинить было невозможно. Параллельно с дипломатической работой он руководил Союзом безбожников СССР и издавал журнал «Безбожник».
Длительную переписку Флоринский вел с Алексеем Устиновым, полпредом в Греции, стране, которую связывали с Россией многовековые православные узы. Поэтому казалось совершенно неразумным не использовать это обстоятельство в политических целях, и Устинов указывал «на неудобства, возникающие вследствие неучастия в церковных церемониях»[223].
Любопытно, что Флоринский занял в этой связи абсолютно жесткую позицию. Признавал, что «в Греции существуют специфические условия», но тут же подчеркивал, что «гораздо больше зла принесут отступления в этой области» и «степень участия полпредства в торжествах представляется вполне достаточной и помимо церковных церемоний». Конечно, они дают «возможность общаться с другими миссиями, но от этих выгод, мне думается, можно отказаться с легким сердцем»[224].
Приведем его аргументы, по возможности, подробнее, они того заслуживают: «Нареканий можно избежать лишь в том случае, если мы решительно и твердо заявим, что ни в каких церковных церемониях мы не участвуем, и если мы действительно неуклонно будем проводить это решение в жизнь. …Понятно, неучастие наших полпредов в церковных церемониях может их ставить в отдельных случаях в затруднительное положение. Однако еще большим злом является отсутствие твердой линии в этом вопросе, могущее вызвать совершенно справедливые нарекания. Почему в самом деле на одной официальной церемонии мы присутствуем, а на другой нет; одного короля хороним на все 100 %, а другого наполовину. …Я полагаю, что твердость и последовательность линии в отношении церковных церемоний может вызвать лишь уважение к нам со стороны буржуазных кругов. О впечатлении среди рабочих говорить не приходится. Нам нет надобности рабски подчиняться всем традициям буржуазного общества. В частности, в этой области мы смело можем вести независимую и твердую линию и от этого мы только выиграем во всех отношениях[225].
Такой подход только на первый взгляд вызывает удивление. Флоринский принадлежал к числу трезвомыслящих нкидовцев, но всегда помнил, что его окружают «более сознательные товарищи», включая «соседских». Любое проявление идеологической неустойчивости, в том числе религиозности могло быть использовано против него, особенно, учитывая не вполне пролетарскую биографию заведующего протоколом.
Добавим, что если за рубежом советские дипломаты еще могли задаваться вопросом – идти в храм или не идти, то в Москве подобная дилемма перед ними не стояла. В июле 1930 года, когда скончался 1-й секретарь итальянского посольства, на панихиду во французскую церковь – Храм Святого Людовика на Лубянке – никто от НКИД не явился.