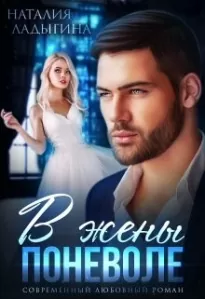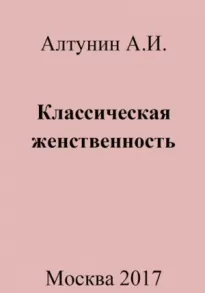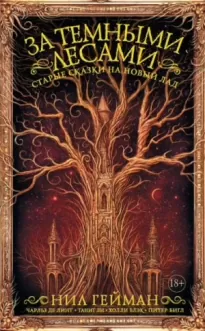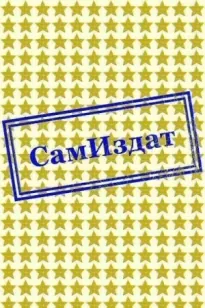Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934
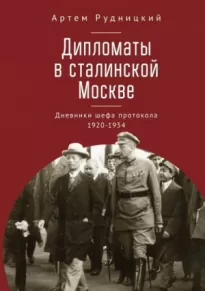
- Автор: Артем Рудницкий
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934"
Друзья из Азии
Первыми зарубежными партнерами Советской России стали Афганистан, Персия и Турция, и по логике вещей именно с них, казалось бы, следовало начинать повествование о посольствах – участниках московской дипломатической жизни. Договоры о дружбе с этими азиатскими государствами были подписаны в 1921 году, а их представители обосновались в советской столице еще раньше. Однако центр тяжести внешних сношений РСФСР, а потом СССР, очень скоро сместился в сторону Европы и США. Осуществляя «советскую модернизацию», большевики опирались на технологии западных государств, и судьбы всего мира и СССР решала в конечном счете большая политика на Западе.
Азиатским «друзьям» бесспорно придавалось немалое значение, но прежде всего в контексте расширения и активизации национально-освободительной борьбы, с целью подрыва могущества «империалистических держав». Взаимодействие это носило достаточно конъюнктурный характер. Какие бы планы ни строили в Москве, представители «освобожденных народов» не собирались строить социализм и рассматривали большевиков как полезных, но временных союзников.
В июне 1921 года в Москву в обстановке строжайшей секретности прибыла турецкая делегация, представлявшая Сирию, Египет и Ливию – бывшие владения Османской империи. После ее развала в результате Первой мировой войны эти территории были переданы под контроль держав победительниц – Италии, Великобритании и Франции. В Турции многие хотели реванша, поддерживали местных националистов и рассчитывали на помощь большевиков – оружием, боеприпасами и деньгами. Но без попыток навязать коммунистическую идеологию. Это на переговорах настойчиво подчеркивал возглавивший делегацию Энвер-паша – известный военный и политический деятель, последователь османизма с имперскими амбициями. Визит обеспечивал Флоринский. Сохранилась фотография, на которой он запечатлен с гостями, в том числе, с Энвер-пашой[437].
Советская Россия поддержала Турецкую республику в период греко-турецкой войны (1919–1922), но в дальнейшем их пути постепенно разошлись. Помогать Анкаре восстанавливать ее влияние в бывших османских сатрапиях Москва не собиралась. Энвер-паша вскоре разочаровался в большевиках, потом примкнул к басмачам в Средней Азии и погиб в бою с частями Красной армии.
В 1927 году в советскую столицу прибыл эмир Арслан-бей (один из членов делегации 1921 года), для участия в Пленуме Исполкома Коминтерна. И воспользовался случаем, чтобы пожаловаться на отсутствие помощи со стороны СССР, в надежде все-таки что-то получить.
Чичерин, негативно относившийся к использованию НКИД и всей дипломатической службы в целях мировой революции, наотрез отказался встречаться с Арслан-беем и запретил это делать Флоринскому. Но тому все же пришлось принять турка по указанию Сталина. Приведем запись из дневника:
«3/XI мне телефонировали из гостиницы “Пассаж” и просили приехать к эмиру Арслану, желавшему меня повидать (я его знаю по пребыванию в Москве в 1921 г. и по Генуе). Согласно инструкции тов. Чичерина, рекомендовавшего сдержанность, я ответил, что приехать не могу, так как очень занят службой в связи с Октябрьскими торжествами. 5/XI мне позвонил секретарь т. Сталина и спросил могу ли я принять Арслана, который сейчас находится у т. Сталина. Я ответил утвердительно. Эмир Арслан просидел у меня около получаса. С упреком говорил, что мы не оказали никакой поддержки сирийскому освободительному движению, которое было благодаря этому раздавлено. Он понимает затруднительность помощи оружием и живой силой, но и финансовая поддержка сыграла бы огромную роль. Между тем, в распоряжении повстанцев находилось всего около 40. 000 ф. стер., собранных среди сирийской эмиграции за границей. Долго рассказывал о жестокости французов, потопивших движение в крови и огне. Ввиду отчаянного положения своей родины он специально отправился в Берлин, чтобы переговорить с т. Чичериным, но не был им принят. Он не будет больше никогда просить о приеме у Г. В. Чичерина, пока его не позовут. Свою поездку в Москву он предпринял по приглашению ВОКСа. Однако о его поездке знает весь мусульманский восток и, если он вернется с пустыми руками, это произведет гнетущее впечатление. Тут он снова заговорил о финансовой помощи Сирии. Сегодня он был на приеме у т. Сталина с группой английских и французских делегатов. Он просил о дополнительном приеме у т. Сталина, чтобы переговорить о делах и рассказать об ужасном положении Сирии. Вчера, на собрании, организованном ВОКСом, он выступал с длинной речью после А. Барбюса[438]. В этой речи он указал, что он, эмир Арслан, не только буржуа, но и потомок владетельного дома, имеющего за собой 13 веков, что, однако, не мешает ему преклоняться и восхищаться Советской властью, справедливостью нашего режима и идеалов. …Далее эмир говорил о разительной перемене в Москве со времени его последнего пребывания в 1921 г. и о глубоком впечатлении, вынесенном им от всего виденного и слышанного во время его настоящей поездки»[439].
Хотя официальная советская идеология рассматривала национально-освободительное движение как союзника мирового пролетариата, в афганских, персидских и турецких дипломатах не просматривалось ничего пролетарского. Это были знатные аристократы, которые дружили с рабоче-крестьянским государством исключительно из конъюнктурных соображений, чтобы получать финансовую поддержку и военные поставки. СССР рассматривали как силу, способную уменьшить влияние бывших метрополий, Англии и Франции. Это являлось подоплекой связей Москвы с режимами в Турции, Афганистане и Персии.
Отношения шефа протокола с турецкими дипломатами и главами турецкой миссии неизменно отличались предупредительностью и обходительностью. Впрочем, в принципиальных вопросах он умел настоять на своем.
Когда в июле 1926 года умер Феликс Дзержинский, турецкий поверенный в делах Беди-бей получил распоряжение лично выразить соболезнование семье усопшего руководителя ОГПУ. «Уговорили письменно, – пометил Флоринский. – С. Дзержинская[440] ответила благодарным письмом согласно пересланному мною проекту»[441].
А в декабре 1927 года новый турецкий посол Тевфик-бей, прибыв Москву, поспешил посетить мавзолей на Красной площади и «возложил венок на гроб В. И. Ленина». Обращаясь к Флоринскому, сказал: «Я имею честь возложить венок на гроб величайшего революционера, друга Турции». И попросил передать это заявление в прессу, что шеф протокола и сделал. Однако его растиражировали турецкие СМИ с критическими комментариями, и в Анкаре, в официальных кругах, такая прыть посла не нашла полного понимания. Спустя несколько дней он пришел к Флоринскому и стал пенять ему за якобы искажение его слов. Дескать, сказано было «великого советского (или русского) революционера». Но не величайшего, потому что величайший, само собой, это Мустафа Кемаль Ататюрк. И только он. Флоринский отверг все обвинения, напомнив послу, «что дважды повторил ему указанный текст»[442].
Одно из последних упоминаний турецкой темы в дневниках шефа протокола – футбольный матч «Москва – Турция» 17 июля 1933 года. Играли на стадионе Динамо, считавшемся архитектурной гордостью столицы. Далеко не все страны присылали в СССР своих спортсменов, и международные матчи всегда становились событием. Так что на приглашение откликнулись все главы миссий. В жизни дипкорпуса было не так уж много развлечений, и дипломаты и их жены не пренебрегли такой возможностью, несмотря на летнюю жару. «Жара – ложи на Южной трибуне… под палящим солнцем… Дипломаты усиленно пили холодный нарзан и оставались до конца… Только греческий посланник ушел раньше… а м-м фон Дирксен жаловалась, что не может фотографировать против солнца и металась по трибуне в поисках защищенного места»[443].
В том же месяце состоялся еще один советско-турецкий матч.
Первым «братским» государством азиатского Востока, установившим дипломатические отношения с большевиками, был Афганистан. В Кабуле считали своим главным врагом Великобританию, в Москве тоже, и это, конечно, роднило. Карлис Озолс едко, но в целом правдиво отзывался о советско-афганской смычке: «Особое положение занимало посольство Афганистана, этого буферного государства между СССР и Британской империей. Король Аманулла пользовался этим, и в Афганистан СССР отправлял немало денег. Об Аманулле Москва любила говорить, как о великом реформаторе, этаком афганском Петре Великом. Сравнение поспешное и необъективное, лишний раз подтвердилось, что от великого до смешного один шаг»[444].
В 1928–1929 годах Аманулла совершал поездку по Европе и, разумеется не мог не посетить СССР. К его визиту готовились с необыкновенным рвением. Предполагалось, что падишах направится в нашу страну морем, прямо из Германии, где он тоже побывал. За ним, в Штеттин, собирались послать крейсер и два миноносца[445]. Но обошлось, и его величество воспользовался железной дорогой. Встречали королевскую особу Лев Карахан с Дмитрием Флоринским, и поезд приготовили роскошный, с поварами, камеристками и прочей челядью.
В Москве Амануллу поселили в особняке на Софийской набережной (его тогда еще не успели отдать англичанам), а вот в Ленинграде не сразу нашли подходящее место. Сначала выбрали Зимний дворец, но он находился в плачевном состоянии. Предложение поместить падишаха в спальню Александра II никак нельзя было принять. «Мрачная комната, потерянная среди пустынных зал и выходящая в сумрачный внутренний двор с облупившимися стенами. Нет воды, маленькая уборная в виду облупившегося шкапа». В помещении, которое предназначали для королевы, вообще не было уборной. Апартаменты Николая II «были опустошены». В итоге остановились на Елагинском дворце, где до революции жила императрица Мария Федоровна, там «всё сохранилось почти в неприкосновенности». Падишаху с супругой отвели «для жилья исторические комнаты – кабинеты Николая I и Александра I»[446].
Более подробно о том, с какой помпой встречали и принимали падишаха (включая поездку по стране, в Крым и т. п.) можно узнать из книги Оксаны Захаровой[447].
Наверняка афганские дипломаты, как и любые иные восточные дипломаты, про себя посмеивались над «упрощенным» советским протоколом, что бы там ни говорилось. Церемониальность, чинопочитание, подчинение младших старшим, по возрасту и положению, были у них в крови и нередко выливались в угодливость и раболепие. В феврале 1929 года Флоринский был свидетелем того, как афганский посланник в Москве встречал афганского наследного принца. Тот вышел из поезда в легком платье, и дипломат тут же скинул с себя шубу, чтобы укутать Его Высочество. Но «тут же забрал шубу у одного из своих подчиненных»[448].
У Флоринского установились доверительные отношения со многими персидскими и турецкими дипломатами. Включая первого персидского посла (в ранге посланника) в Советской России в 1918–1921 годах Ассад-хана (Ассадул-хан Асад Бахадур), естественно, аристократа, из старинного и влиятельного рода. Вместе с тем он отличался скромностью, неприхотливостью и мужественно терпел условия военного коммунизма. Признавался в своих «симпатиях к Совпра и “к отдельным его членам”», особенно подчеркивая свое расположение к Льву Карахану. И даже помогал с передачей оперативных сообщений. В 1918–1919 годах пересылал шифрованные телеграммы большевистского руководства Вацлаву Воровскому, когда тот был полпредом в Скандинавии. В Москве тогда еще не наладили шифрсвязь или она функционировала со сбоями (например, Адольфу Иоффе в Берлине приходилось отправлять и получать телеграммы по открытым каналам) и помощь персидского посла была весьма кстати[449]. По сути это уникальный случай в мировой практике.