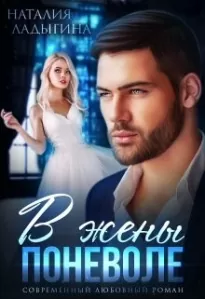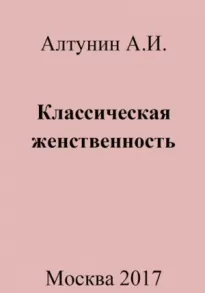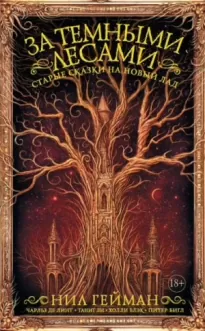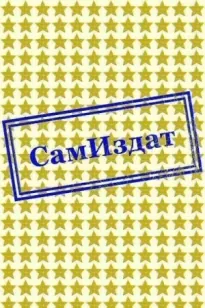Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934
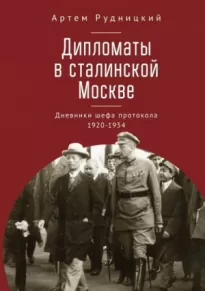
- Автор: Артем Рудницкий
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934"
Все равно, братские народы
Как-то Владимир Соколин в разговоре с японским военно-морским атташе Кисабуро Коянаги спросил, хорошо ли тот знает Японию. Коянаги сказал, «что знает, за исключением Камчатки». На вопросительный взгляд Соколина отреагировал такой репликой: «Все равно, братские народы»[474].
Трудно сказать, что конкретно имел в виду японский офицер, завоевавший в Москве далеко не лучшую репутацию и закончивший свои дни весьма трагически. Но не будем опережать события, а лишь отметим пока, что Коянаги, возможно, плохо знал географию, а возможно и хорошо, просто выдавал желаемое за действительное. При этом имел в виду, конечно, не русских, в которых ничего «братского» не видел, а коренных жителей полуострова, камчадалов. Как и другим азиатским народам, с точки зрения японцев, им следовало тянуться к Токио, который собирался устроить «зону сопроцветания Азии», захватив весь Дальний Восток, юго-восточную и южную часть Тихоокеанского региона и «освободив» коренное население от иностранных колонизаторов. В данном случае колонизаторами и врагами были русские, а туземцы, знамо дело, объявлялись родственными народами по духу и по крови.
Разговор Соколина и Коянаги состоялся в 1928 году, оставалось около трех дет до захвата Маньчжурии и идеология экспансии еще окончательно не утвердилась как основа внешней политики Токио. После восстановления советско-японских дипломатических отношений в январе 1925 года двустороннее сотрудничество в целом развивалось неплохо. Японский посол Такеши Танака уверял, «что в Японии нет предрассудков против представителей соввласти, как в других странах Европы и Америки»[475]. Расширялись торговля, экономическое сотрудничество, японцам предоставлялись концессии, интенсивно шел культурный и общественно-политический обмен. В Японию съездил известный писатель Борис Пильняк, написавший книгу «Корни японского солнца» (его консультировал разведчик Роман Ким, о котором еще пойдет речь в связи с «делом Коянаги»). В СССР гастролировал театр Кабуки.
Отношение к японцам отличалось благожелательностью, до враждебных настроений (в духе строки из культовой песни – «…и летели наземь самураи») было еще далеко. Японская интервенция на Дальнем Востоке воспринималась не так болезненно, как английская или французская в европейской части страны, и Токио не угрожал Москве ультиматумами типа «керзоновского». Поэтому трудящиеся массы с энтузиазмом приветствовали представителей Японии. Например, крупного японского бизнесмена и политика Фусаносукэ Кухару, путешествовавшего в 1928 году по Сибири. «В одном месте, – отмечал Савелий Костюковский[476], один из помощников Флоринского, – представитель Исполкома просил Кухару “передать братский привет всему японскому революционному пролетариату и рассказать ему всю правду об СССР”». Логика была простой: раз иностранец приехал к нам, значит, он наш, иначе зачем было приезжать? «А кажется в Новосибирске Кухару приветствовали от имени Новосибирского революционного пролетариата»[477].
Виконт Симпэй Гото приезжал дважды. Во второй раз, в 1927 году, он отметил в развитии СССР «большой сдвиг по сравнению с 1922 годом, когда он совершал поездку по Сибири, сохранившей еще память об интервенции». И привез в подарок советским пионерам альбом с фотографиями и рисунками бойскаутов (Гото возглавлял их организацию в Японии). Скаутское движение считали в Советском Союзе буржуазной выдумкой и не признавали (возможно, потому что пионерское движение с него скопировали). Флоринский замечал в этой связи: «Положение с этим подарком скользкое, но не принять его нельзя»[478].
Оба, и Гото, и Кухара удостоились встречи со Сталиным, это о чем-то да говорило.
Случались и забавные казусы. В Ленинграде председатель Ленсовета и Облсовета Ленинградской области Николай Комаров, произносивший приветственную речь в связи с визитом Гото, называл его то виконтом, то графом и путал Японию с Китаем, хотя какое значение могли иметь такие мелочи![479].
Гото неосмотрительно решили сводить на балет Рейнгольда Глиэра «Красный мак», премьера которого незадолго до этого прошла в Большом театре, это был гвоздь сезона. Но Анатолий Луначарский высказался «против присутствия Гото на спектакле, который оставил бы, по его мнению, весьма неблагоприятное впечатление у японцев и дал бы им неправильное представление о наших постановках». Балет был посвящен революционному движению в Китае против «поработителей», и, хотя конкретно речь шла об англичанах, японцы, которые зарились на соседнюю страну, с легкостью могли отнести осуждение колониализма и на свой счет. Лев Карахан, который в качестве полпреда в Китае немало способствовал нагнетанию революционных страстей, был недоволен решением наркома просвещения. Однако его оставили в силе, а виконту объяснили, что балет якобы страдает недостатком «художественной цельности», и с просмотром не получится еще и потому, что оркестр объявил «итальянскую забастовку»[480]. Что, конечно, было неправдой.
О «Красном маке» высказалась Элизабет Черутти. По ее словам, дипкорпус высоко ценил постановки Большого театра, но в данном случае воспринял премьеру с унынием и разочарованием. Танец девушек-подметальщиц улицы с метлами в руках (самой большой метлой вооружили приму-балерину) вызвал иронические комментарии. Луначарский, сидевший на премьере рядом с Черутти, «наклонившись к ней, сказал: “Какая ошибка, мадам Черутти. Надо выбирать что-то одно, пропаганду или балет. Когда смешиваешь то и другое, то не получаешь ничего – ни пропаганды, ни балета”»[481].
Мнение Луначарского по поводу недопустимости просмотра «Красного мака» зарубежными гостями, особенно высокого уровня, разделял и Чичерин. При подготовке к приезду афганского падишаха он пенял Флоринскому за то, что тот решил показать этот балет монарху и включил данный пункт в программу визита. Вот какой была реакция наркома: «Под пятым днем значится: “Красный Мак”. Это кажется мне абсолютно неудобным и даже недопустимым. Борьба против Англии на восточной почве кончается цветами красного мака, то есть внутренней революцией. Мы этим как будто нарочно говорим падишаху: “Борись, борись с Англией, сколько хочешь, результатом будет революция у тебя самого”. Нельзя же такие глупости говорить потентату (властителю, властелину – авт.). Между тем “Красный Мак” это именно и говорит»[482].
Сохранились сделанные Флоринским заметки о визите делегации Кухары. В обратный путь японцы отправились под присмотром шефа протокола, и они вместе проделали все путешествие по железной дороге до Владивостока. Флоринский добросовестно записывал высказывания японских официальных лиц. «На мой вопрос – какое наиболее яркое впечатление осталось у него от поездки в СССР – Кухара ответил, что наиболее яркое впечатление есть виденная им искренняя, неподдельная любовь народов СССР и Японии. Это – добавил он – является крепким фундаментом дружбы двух народов»[483].
Флоринский отнесся к такому изъявлению дружеских чувств со скепсисом, хотя прямо это, разумеется, не показал. О многом говорила характеристика, которую он дал Кухаре и сопровождавшему его барону Ито: «Кухару грубый, ограниченный, примитивный человек. Барон Ито – пьяница, светский жуир, оценивающий все под углом своих прихотей…»[484].
О пристрастии сынов Страны восходящего солнца к спиртным напиткам в дневниках протокольного отдела упоминалось регулярно, к месту и не к месту. К примеру, вот как Флоринский описал «большой вечерний прием в японском посольстве по случаю “годовщины основания Империи”», состоявшийся 11 февраля 1925 года. «Вся Коллегия НКИД, кроме т. Сокольникова, заболевшего и пославшего извинительное письмо. Ряд наших работников. Много военных (т. Ворошилов не приехал, также как и т. т. Розенгольц[485] и Бубнов). Т.т. Элиава с женой, Аркадьев[486], Радек и др. Дипкорпус. Инкоры. Кормили скверным ужином, как столовка средней руки. Зато был котильон. Танцевали до поздних часов. Японцы по обыкновению напились»[487].
Савелий Костюковский, тоже путешествовавший на Дальний Восток с Кухарой, записал так: «В дороге миссия уделяла много внимания ресторану, где она буквально швырялась деньгами. Особо отличился барон Ито, который все время пьянствовал»[488].
Постоянно веселившийся барон сочинял «японские песеньки», посвященные поездке в СССР, в которых, как заметил Костюковский, упоминалось слово «Сибирь». Однако переводчик Тагасуки «от перевода… этих песенек уклонился». Оставалось предположить, что в них содержались некоторые непристойности, либо выпады в адрес первой в мире страны социализма. Выяснить это Костюковскому так и не удалось[489].
В отличие от Флоринского, Карлис Озолс высоко ценил японские угощения и вообще японское гостеприимство:
«В противовес Германии – посольство Японии, самое большое посольство восточных стран во главе с Токиши Танака[490]. Он прибыл с большим числом секретарей и военных атташе. Сначала посольство занимало небольшой дом, потом переехало в отремонтированный великолепный особняк, принадлежавший известному московскому богачу Савве Морозову[491]. Эти маленького роста люди, японцы, как бы пропадали в больших высоких залах морозовского дворца, но для больших приемов эти помещения чрезвычайно подходили. Японское гостеприимство, изысканная любезность, предупредительность как-то невольно рождали мысль, что, заняв эти громадные пространства, японцы мечтали и сами стать большими в великой России. …На вечерах у посла Танаки наряду с европейскими блюдами подавались и чисто японские. Всевозможные рыбные супы, рис в разных видах и под разными соусами и приправами» [492].
Озолс, как и все трезвомыслящие наблюдатели, сомневался в прочности советско-японской дружбы и сделал верное замечание: «…у меня никогда не создавалось впечатления, что Япония может состоять в союзе с Россией, если даже он направлен против Англии и Франции, как того хотела Германия, ее посол Брокдорф и СССР»[493]. К середине 1930-х годов взаимное недоверие между Москвой и Токио усилилось, особенно после установления советско-американских дипломатических отношений. В 1934 году Буллит «конфиденциально» рассказывал Флоринскому, что японцы считали, что он, Буллит «во время первого приезда в Москву заключил с нами секретное соглашение о вступлении США в случае советско-японской войны и что он возвращается в Вашингтон, чтобы лично доложить Рузвельту, не доверяя шифру и диппочте»[494].