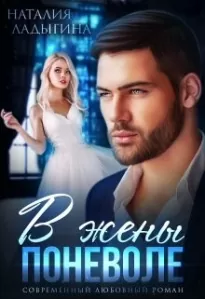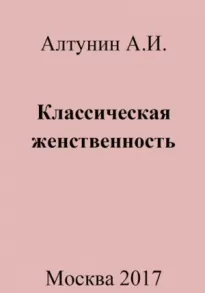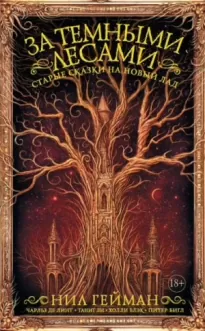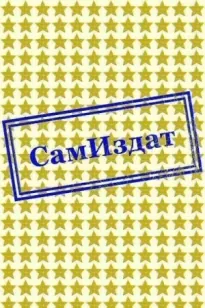Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934
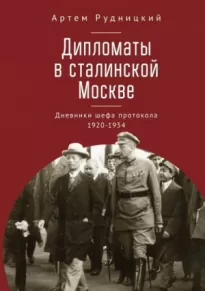
- Автор: Артем Рудницкий
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934"
Ultima thule
Флоринский часто выезжал в командировки (последний раз в 1932 году) и не раз имел возможность остаться за рубежом, стать невозвращенцем – как Беседовский, Дмитриевский или другие дипломаты. Спасти свою жизнь. Ему было всего 45 лет – относительно молод, целеустремлен, энергичен. Не факт, что его приняла бы эмиграция, но можно было обойтись и без помощи соотечественников. С его опытом, квалификацией, знанием иностранных языков он с легкостью нашел бы работу в бизнесе или на худой конец стал экспертом-консультантом по вопросам советской внешней политики и дипломатии.
Однако Флоринский не уехал. В Москве были работа, завидный статус… Как-то не верилось, что человек его уровня мог в одночасье всего этого лишиться. Возможно, он испытывал определенные иллюзии насчет советского строя, убеждал себя, что все не так уж плохо и кривая вывезет. Да и не только он так рассуждал…
Илья Эренбург писал, что «еще легко было и спорить и мечтать»[777], имея в виду конец двадцатых годов. Верно, остатки либерализма в советской жизни присутствовали и в конце двадцатых, и в начале тридцатых, но обманывались только те, кто «и сам обманываться рад». Хотя режим еще не подмял под себя всю страну и репрессии не приобрели тотального характера, давно уже шли аресты, были концлагеря, сфабрикованные процессы, режим спровоцировал страшный голод, обрекая на смерть миллионы крестьян. «Можно ли жить в стране, обреченной на голодное вымиранье, можно ли жить среди тупых, мрачных, озлобленных людей, злополучной, голодной, обманутой черни, мнящей себя властительницей?», – вопрошала Любовь Шапорина[778].
Большому риску подвергались государственные служащие, а если это были спецы из бывших, то риск удваивался. Матвей Ларсонс приводил слова одного из таких спецов: «Наше положение совершенно ясно. Лучше вcero ero можно сравнить с положением кaнaтноro плясуна. Мы все ходим по тонкому канату, мы знаем прекрасно, что мы несомненно когда-либо свалимся с каната. Мы не знаем только одноrо: коrда и по какую сторону каната мы сломаем себе шею»[779].
Разные причины могли удерживать Флоринского в СССР. К примеру, забота о матери и сестре. Однако в любом случае следовало понимать: он рискует головой, и с каждым месяцем, неделей, днем, этот риск возрастал.
При всех своих попытках встроиться в советскую систему и быть ей полезным, Флоринский оставался попутчиком, человеком старой закалки, тяготевшим к общемировой культуре и традициям, а потому ненадежным и опасным в глазах советской верхушки и обслуживавших ее чиновников. Открыто критиковал методы ГПУ, свободно общался с иностранными дипломатами, вообще с иностранцами и даже требовал создавать для этого общения особо благоприятные условия! Вел себя так, словно жил в демократической стране. За гораздо меньшее люди могли поплатиться.
Повод для расправы нашелся легко, его особенно и искать не пришлось. О гомосексуальности Флоринского было известно, хотя известность эта опиралась в основном на слухи, едва ли тому имелись веские и неопровержимые доказательства. Только ГПУ в доказательствах не нуждалось, чекисты знали, как выбивать признательные показания.
Сохранилось немного свидетельств, отрывочных и косвенных, которые могут пролить свет на сексуальные пристрастия Дмитрия Тимофеевича. Он был дважды женат и всякий раз брак распадался. Ни семьи, ни детей у него не было. Первый раз он женился в Киеве, в 21 год. Избранницей была некая Мария Владимировна Колендо. Спустя два года они развелись.
Второй брак состоялся в 1929 году. На этот раз его женой стала артистка Большого театра Ксения Петипа, внучка знаменитого балетмейстера Мариуса Петипа[780]. Выбор в пользу артистки Большого был хорошо просчитан, учитывая то, что красная элита «неровно дышала» в сторону балерин, а Флоринскому было важно сделать свой брак максимально публичным и эффектным.
Можно строить догадки, было ли это искренним союзом любящих сердец или попыткой шефа протокола выглядеть «нормальным» – в собственных глазах, в глазах светского общества и советского начальства, от которого зависела его судьба. Нельзя исключать, что верным было и то, и другое, и третье. Характерно, что он поспешил продемонстрировать свою супругу дипкорпусу, не преминув подчеркнуть это в дневнике: «В Корпусе стало известно о моем браке; мое появление с женой произвело даже некоторую сенсацию… нас поздравляли»[781].
В соответствии с дипломатическими традициями и правилами куртуазности супруга Флоринского наносила визиты супругам глав иностранных миссий. Одной из первых она посетила супругу эстонского посланника Юлиуса Сельямаа, с которым Флоринский был дружен. Вообще-то, в Москве, среди сотрудников НКИД, мало кто следовал в данном вопросе традициям и правилам, и шеф протокола мог ими пренебречь. Но он старался соблюдать условности, придать своему браку общественно значимый характер и защитить себя от опасных для него пересудов и сплетен.
Трудно сказать, насколько это убедило дипломатов, пожалуй, не совсем. Мадам Заневская (жена 1-го секретаря польского посольства Хенрика Заневского) не без ехидства и игривости осведомилась у Флоринского: правда ли, что партия заставила его жениться «против воли»[782]. Само собой, шеф протокола категорически отрицал участие партии в своих личных делах, но сам по себе вопрос показателен. И возможно, было не слишком осмотрительно отражать этот разговор на страницах дневника.
Второй брак длился примерно столько же, сколько и первый. Во всяком случае, в анкете, заполненной Флоринским в марте 1932 года, он указывал, что разведен, а имени бывшей (второй) жены не сообщил.
Нужно сказать, что Флоринский пользовался необыкновенной популярностью у «лучшей половины человечества» и находилось немало женщин, желавших расшевелить его, чтобы убедиться на практике в его сексуальной ориентации. Дипломатические дамы неоднократно напрашивались к нему в гости, приглашали к себе и не скрывали своей симпатии.
Как-то мадам Заневская «выразила надежду, что шеф протокола не побрезгует принять скромное приглашение секретаря миссии на обед “ввиду прежних добрых отношений по Америке” (с четой Заневских Флоринский познакомился в США, когда был вице-консулом в Нью-Йорке – авт.)». Флоринский отреагировал следующим образом: «Я ей дал шутливую отповедь и приглашение, понятно, принял. После нескольких рюмок вина м-м Заневская, разоткровенничавшись, сказала, что, “несмотря на всё”, она всё же продолжает мне симпатизировать»[783].
Нет оснований полагать, что при всех женских симпатиях и брачных попытках Флоринскому удалось развеять устойчивое мнение о себе, как приверженце «мужской любви». Он был слишком заметен, многих раздражал своим светским лоском и не вполне советскими манерами, и объяснимо, что именно его выбрали в качестве центральной фигуры так называемого «дела педерастов», сфабрикованного ОГПУ в 1933–1934 годах.
Защитить Флоринского было некому, никто в НКИД не рискнул пойти наперекор чекистам. Тем более этого не мог сделать находившийся уже четыре года в отставке Георгий Чичерин, который и сам мог пострадать от набиравшей силу гомофобии. Современники отдавали себе отчет в его «нетрадиционных» пристрастиях. Если его не тронули, то лишь потому, что он тяжело болел, полностью утратил свое влияние и не представлял угрозы для режима. У Чичерина «не было не друзей, ни женщин», писал Владимир Соколин[784], и свои последние дни он провел в полном одиночестве.
О том, в каком положении находился бывший нарком, свидетельствует Карлис Озолс:
«Его оттесняли, затирали, наконец сместили, он должен был уйти. Начались печальные дни Чичерина. Он проводил их кошмарно. Передавали, как, прибыв в Москву, первый американский посол Буллитт обратился с просьбой устроить ему свидание с Чичериным, с которым он был знаком еще с первого приезда в СССР. Прошло некоторое время, Буллитт повторил свою просьбу, но она была оставлена без внимания. Тогда он отправился разыскивать квартиру Чичерина. Нашел. Стучит раз, ответа нет. Стучит вторично, ответа опять нет. Тогда он стал колотить в дверь. Слышит, что-то зашевелилось. Наконец дверь медленно отворяется, и – о, ужас! – на миг появляется человек в растерзанном виде, в нем Буллитт тотчас узнал Чичерина. Тем не менее он все-таки спросил:
– Здесь живет Чичерин?
– Чичерина нет, он умер, – последовал злобный ответ, дверь захлопнулась»[785].
Уголовное преследование за гомосексуальные отношения практиковалось во многих странах – например в Великобритании, Германии, Австрии и Швейцарии. Российская империя не была исключением, но сразу после революции соответствующую статью убрали из уголовного кодекса. Страна бредила идеей тотальной свободы, в том числе в личных, сексуальных отношениях. Однако по мере укрепления сталинского режима на смену ей пришла другая идея – тотальной государственной регламентации всех сторон общественной, личной и интимной жизни. Любые девиации воспринимались как «шаг влево, шаг вправо», недопустимые проявления индивидуализма. Это привело к широчайшему распространению ортодоксальной, консервативной морали, в ее наихудшем, ханжеском виде. Любые проявления сексуальной свободы считались чем-то грязным и недозволенным (буржуазным пережитком), внебрачные связи порицались, а гомосексуальные контакты квалифицировались как половое извращение.
В сентябре 1933 года Ягода доложил Сталину о том, что ОГПУ раскрыло целый заговор гомосексуалистов, якобы погрязших, помимо половых извращений, в контрреволюционной деятельности. Дескать, совращали невинных людей, особенно молодежь, бойцов Красной армии и флота, студентов, с тем, чтобы сделать их антисоветчиками, заставить заниматься шпионажем в пользу врагов СССР. Арестовали более 130 человек − журналистов, писателей, артистов и священнослужителей. И главным фигурантом сделали Флоринского.
Его судьбой интересовался лично Сталин и возмущался тем, что арест Флоринского задерживался. 4 августа 1934 года он направил гневное письмо Лазарю Кагановичу, члену ЦК и Политбюро и председателю Комиссии партийного контроля: «Просьба ответить: первое, почему решение ЦК о Флоринском не проводится в исполнение?»[786].
Сталину объяснили, что причина заключалась в визите в Советский Союз министра иностранных дел Эстонии Юлиуса Сельямаа, который хорошо знал Флоринского, ценил его и наверняка был бы обескуражен, узнав, что шефа протокола бросили в застенок. Это могло негативно сказаться на ходе переговоров, посвященных важному для Москвы вопросу – подготовке Восточноевропейского пакта, который должен был заложить основы коллективной безопасности в Европе и сдержать агрессию гитлеровской Германии. Поэтому нарком иностранных дел Максим Литвинов просил не трогать Флоринского до окончания визита.
Сельямаа пообещал поддержку пакта со стороны Эстонии, если аналогично поступят Германия и Латвия, и подписал соответствующий протокол. В тогдашних условиях большего ожидать было трудно, поэтому результат переговоров можно было считать очередным успехом внешней политики СССР. После отъезда министра из Москвы уже ничто не мешало убрать Флоринского с политической сцены.