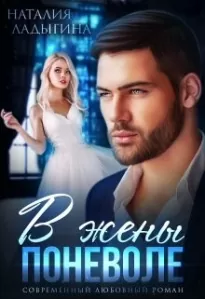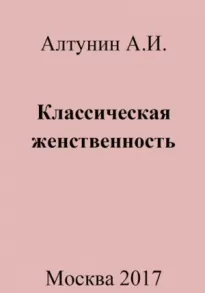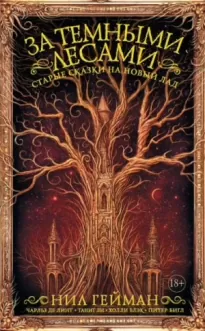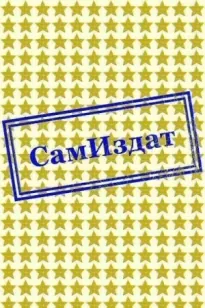Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934
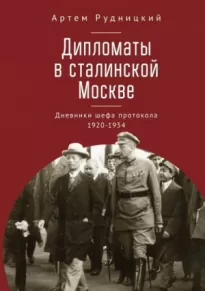
- Автор: Артем Рудницкий
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934"
Сегодня поведение Литвинова может показаться вопиющим проявлением цинизма со стороны человека, который привел Флоринского в НКИД и рука об руку работал с ним 14 лет. Допустим, отношения между ними были неровными, о чем свидетельствуют и «литвиновские заметки». В них Литвинов называет Флоринского то своим «копенгагенским крестным сыном», сочувствует ему и говорит, что «не даст в обиду», то по какой-то причине гневается и запрещает переступать порог своего кабинета[787], однако вряд ли нарком мог хладнокровно «сдать» своего коллегу. Скорее всего, он не рисковал идти наперекор Сталину – даже в 1934-м, когда Большой террор только стучался в двери. А позднее НКВД по указанию вождя приступил к массовому уничтожению кадровых дипломатов, и Литвинов сам находился на грани ареста.
И все же… Хотя нарком не мог спасти своего подчиненного, не укладывается в голове, как в такой ситуации, зная, что человеку грозит смертельная опасность, он не упустил последнюю возможность, чтобы использовать квалификацию и опыт Флоринского – перед тем как окончательно списать его со счетов. С другой стороны, проект коллективной безопасности был настолько важен для Литвинова, что ради его осуществления многое ставилось на карту.
Конечно, Флоринский боялся ареста, но не мог знать об этом наверняка и надеялся избежать такой развязки. Вероятно, рассчитывал, что руководство НКИД и непосредственно нарком заступятся за ценного работника. Ведь прежде ничего подобного в истории Наркоминдела не случалось. Можно не сомневаться, что поручение обеспечить протокольное сопровождения визита Сельямаа Флоринский воспринял как нечто обнадеживающее. Раз дают такое задание, значит по-прежнему доверяют и можно не беспокоиться. Наверное, он был благодарен Литвинову, не подозревая, что тот попросил отсрочки всего на несколько дней. Правда, они растянулись почти на неделю, и Кагановичу пришлось за это извиняться перед Сталиным[788].
Пройдет совсем немного времени, аресты и казни сотрудников НКИД, причем высшего звена, перестанут быть чем-то особенным и неожиданным, начнется настоящая бойня – полетят головы замнаркомов, полпредов, старших дипломатов… Пик придется на 1937–1939 годы, и Литвинов ничего не сумеет сделать, чтобы остановить это безумие. Его самого сместят с должности, а пришедший ему на смену Вячеслав Молотов завершит избиение кадровых дипломатов.
Так что Флоринский был первым, но далеко не последним в ряду арестованных и физически уничтоженных дипломатов. Чекисты его взяли на следующий день после записки Сталина Кагановичу, и тогда же, 5 августа 1934 года, его освободили от работы в НКИД. Любопытная деталь: из Красной армии (как мы помним, шеф протокола был зачислен в резерв при штабе РККА, чтобы иметь право носить военную форму) его сразу не уволили. Спохватились через два года, и приказ об увольнении подписал заместитель наркома обороны Михаил Тухачевский.
Флоринскому предъявили обвинение не только в мужеложестве, этого было маловато, но и в шпионаже – работе на германскую разведку. Его ultima thule, последним пределом, стали камера на Лубянке и барак в Соловецком лагере. Через пять лет последовал расстрел.
Арест шефа протокола вызвал недоумение и возмущение в дипкорпусе, дипломаты требовали разъяснений. Они были даны Николаем Крестинским (к тому времени выросшим до заместителя главы НКИД и через пару лет разделившим участь Флоринского) итальянскому послу Бернардо Аттолико. Встреча состоялась 14 августа 1934 года. Обсуждались разные вопросы, записывал беседу помощник заведующего 3-м Западным отделом НКИД Хаим Вейнберг. Но в конце встречи итальянец попросил Вейнберга удалиться, чтобы поговорить с Крестинским с глазу на глаз. Вот этот разговор в изложении замнаркома и официальной редакции:
«Когда мы остались вдвоем, Аттолико сказал, что хочет в совершенно частном порядке переговорить со мной о Флоринском.
Вам известно, сказал Аттолико, что Флоринский поддерживал довольное интимное знакомство со многими членами дипкорпуса, которые посещали его на дому, с которыми он играл в бридж, занимался спортом. Сами Аттолико были в хороших отношениях с Флоринским. Но в еще более близких отношениях были с ним семья греческого посланника и кое-кто другой из дипломатов. И вот у этих дипломатов появляется мысль, не пострадал ли Флоринский за эти свои близкие отношения с членами дипкорпуса?
Я ответил Аттолико, что, как ему передавал уже т. Шило[789], Флоринский привлечен к ответственности за антиморальные поступки, по обвинению в гомосексуализме, и в связи с этим уволен из НКИД. Ему, конечно, никто не ставит в вину его добрых отношений с членами дипкорпуса и совесть тех дипломатов, которых Аттолико имеет в виду, может быть совершенно спокойна. Они ни в коей мере не повредили и не могли повредить Флоринскому своим хорошим отношением к нему. Далее Аттолико сказал мне следующее. Дипкорпус догадывался о том, что Флоринский не вполне нормален в области половых отношений. Но члены дипкорпуса думали, что если это известно им, то вероятно, об этом знают и советские власти. Тем не менее, Флоринский привлечен к ответственности лишь сейчас. Это и вызвало у некоторых членов дипкорпуса предположение, что увольнение Флоринского связано не только с его гомосексуализмом.
Я ответил – наши следственные власти только в самое последнее время установили виновность Флоринского. Может быть, у кого-либо и существовало предположение, что Флоринский в далекие молодые годы был гомосексуалистом, но никто не думал, что он продолжает заниматься этим теперь, и только в самое последнее время следственным властям стало известно, что он проявляет в этом деле большую активность. Естественно, он был привлечен к ответственности, и также естественно, что мы не могли после этого оставить его на службе в НКИД.
Аттолико поблагодарил меня за разъяснение и сказал, что он в свою очередь разъяснит действительное положение дела тем членами дипкорпуса, у которых было неправильное представление о деле»[790].
Аттолико и его коллеги были людьми неглупыми и вряд ли поверили в байку о том, что в советском руководстве «никто не думал», что Флоринский практикует гомосексуализм», что все, дескать, были уверены, будто он расстался с этой привычкой «в далекие молодые годы». Трудно было сомневаться в том, что гомосексуализм – повод, но не причина.
Причин было несколько.
В обстановке кардинальных политических перемен, ужесточения тотального контроля над обществом председатель ОГПУ Генрих Ягода всячески старался угодить Сталину, а сделать это можно было единственным способом – раскручивая маховик репрессий.
Вождя не устраивала красная элита, к которой принадлежал Флоринский, она должна была быть выкорчевана полностью. Дело не в том, что диктатор стремился к социальному равенству. Он как раз поощрял неравенство и создавал максимально благоприятные условия для высшего класса, особенно на фоне нищеты и забитости народных масс. Советский строй, что бы ни заявляла советская пропаганда, всегда отличался неравноправием, просто менялся характер элит и назывались они по-разному: партократия, номенклатура, советская аристократия или советская буржуазия… Проблема заключалась в том, что элита 1920-х – начала 1930-х годов вобрала в себя не только прожигателей жизни, напыщенных фанфаронов, но и многих думающих людей, способных критически отнестись к системе, которую Сталин растил и пестовал.
Специфика этой элиты заключалась в том, что она в немалой степени переняла привычки, манеры и общий жизненный настрой, прежде присущие привилегированным сословиям старой России. Определенные аристократизм и интеллигентность, скажем так. И не только благодаря присутствию в ней отдельных представителей этих сословий, их там было меньшинство. Главное заключалось в притягательности прежнего, ушедшего мира. Несмотря на все пертурбации и катаклизмы, свежи были воспоминания о том, как хорошо была налажена жизнь, по-своему уютна и мила. В глубине души многие красные функционеры хотели вернуться в нее, пусть ненадолго, и создавали для себя в Москве эрзац-аналог этой старорежимной жизни.
Позже на смену этой элите пришли другие – менее образованные, недалекие, умственно и духовно ограниченные, а потому органично вписавшиеся в социалистическую действительность и не представлявшие опасности для кремлевской верхушки. В отличие от красной знати 1920-х и начала 1930-х годов, которая, как бы она ни декларировала новые идеи, смотрелась инородным телом в советских условиях. И отпущен ей был короткий жизненный срок.
Наконец, значительную роль сыграло традиционно неприязненное и подозрительное отношение Сталина к сотрудникам внешнеполитического ведомства, которые с его точки зрения были особенно подвержены вредному буржуазному влиянию – так как подолгу жили за рубежом и, даже находясь в центральном аппарате НКИД, получали объективную информацию о жизни в развитых странах и могли сравнивать ее с тем, что происходило в Советском Союзе, не впадая в коммунистический экстаз.
Сталину и Молотову, которые в 1930-е годы составили своего рода правящий дуумвират (неравноправный, конечно, Молотов играл второстепенную роль), требовались не самостоятельно мыслящие дипломаты, а преданные исполнители, хорошо обученные, но не слишком выделявшиеся на общем фоне. Эту тенденцию Георгий Чичерин охарактеризовал еще в 1924 году в письме Льву Карахану, образно, но по сути точно: «Вы не сознаете, насколько все переместилось. Теперь наиболее сильны люди, не любящие красивых наружностей и хороших сигар»[791].
Сталин и Молотов перекроили НКИД, а затем Министерство иностранных дел СССР по своим лекалам. Трансформировали в хорошо отлаженную машину, четко исполнявшую решения, которые принимались в Политбюро и Секретариате ЦК Коммунистической партии, но не игравшую самостоятельной роли.
Массовые репрессии второй половины 1930-х годов приобрели невероятный размах и привели практически к полному разгрому НКИД – в том виде, в каком он успел сформироваться при Георгии Чичерине и Максиме Литвинове. Под нож пошли все дипломаты из бывших. Одновременно было организовано истребление идейных нкидовцев, представителей революционной интеллигенции, которые и в подполье успели поработать, и революцию делали, и в гражданскую воевали. Они знали цену Сталину, и этими своими знаниями представляли опасность для вождя, внедрявшего в массовое сознание советского общества выгодную ему историческую картину.
С Флоринского начали потому, что он чрезмерно выделялся, и его можно было упрекнуть в том же, в чем позже в глазах Сталина провинился Михаил Кольцов – «слишком прыткий». Но расправа с шефом протокола была только первой ласточкой, отправной точкой кампании репрессий, направленной против НКИД.
В вестибюле высотного здания МИД России на Смоленской площади установлены несколько памятных досок из красного гранита. На них выбиты золотом имена сотрудников, погибших за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне и при исполнении служебных обязанностей. А на доске из белого мрамора надпись гласит: «Памяти работников советской дипломатической службы – жертв репрессий 30–40-х и начала 50-х годов». Только на ней нет имен, слишком много было репрессированных, больше 340. По архивным материалам их установили сотрудники Историко-документального департамента Министерства и внесли в Книгу памяти. Есть в ней и имя Дмитрия Флоринского.