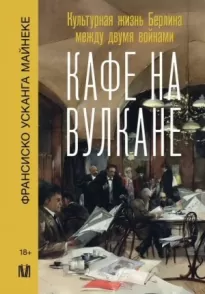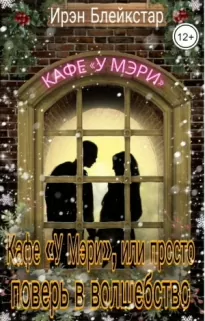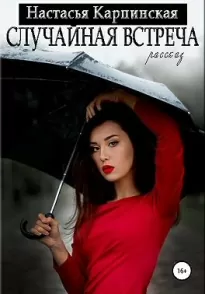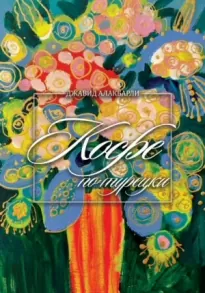Хиппи в СССР 1983-1988. Мои похождения и были
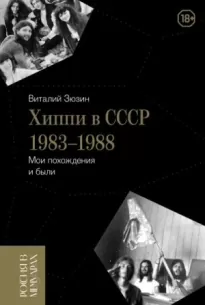
- Автор: Виталий Зюзин
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Хиппи в СССР 1983-1988. Мои похождения и были"
То, что можно было бы назвать политической активностью
Прочитал в апреле 2020 года статью Ирины Гордеевой, молодой исследовательницы молодежной среды, оппозиционной политическому курсу советского государства. Ею подробно рассматриваются Юра Диверсант и группа «Доверие», основанная Батовриным и Шатравкой. Ни с одним из этих троих персонажей я не был знаком, но наслышан с разных сторон. Это были люди, политически созревшие и жаждавшие конкретной деятельности по разрушению той душной, злобной, мстительной, лживой тоталитарной системы, которая нас всех окружала с детства. Круг подобных активистов, инициаторов был крайне мал, и людям, даже уже начавшим оппозиционную деятельность, зачастую было трудно как найти просто единомышленников, столь же решительных, так и наладить контакты с уже известными диссидентами. Поэтому старались рекрутировать в своей среде. В случае с Батовриным и Диверсантом это были волосатые. Но это все была либо совершенно зеленая молодежь, пьяная от эйфории свободы, найденного общения и от своей особости, либо уже потасканная по дуркам, спецприемникам и наркодиспансерам олда, которая держалась своего круга и больше была занята рок-музыкой, семьями с детьми, работенкой и изредка поездками к старым друзьям в другие города. Они все были инфантильными романтиками, отвергающими политику и не способными к ней. Вообще, хиппи свой собственный лозунг «лучше влезть в грязь, чем в политику» плохо понимали. Ведь первоначально под политикой понимали ту «взрослую» политику с интригами, ложью, войнами и несправедливостью, которая была политикой их родителей. И действительно, становиться участниками циничной и жестокой «взрослой» политики было подло и низко. А создавать свою политику они не хотели и не умели.
При этом само их существование было политикой. Бессистемное, никому не подчиняющееся и никем не контролируемое, оно противопоставляло себя иерархичной и упорядоченной системе обыденной жизни всех советских граждан, к тому же довольно военизированной и нацеленной ракетами на весь мир, который априори считался враждебным. Мы же мир считали божьим даром, всех людей братьями и сестрами. Более открытых и дружеских людей в Союзе было, наверное, не сыскать. В этом смысле хиппи как бы противопоставляли Марксу и Ленину Кропоткина и Бакунина. Хотя в жизни их почти никто не читал. Все больше Торо или Нагорную проповедь.
В чем разница деятельности организаторов политического сопротивления, традиционно называемых диссидентами, и моей? Прежде всего не в прямой политизированности, а скорее в культурной. Хоть мы и находились под наблюдением, но оно было бы в любом случае из-за нашего внешнего вида и принципиальной оппозиции режиму, хотя не выраженной прямо, как у классических правозащитников. Они декларировали желание соблюдения прав кого-то, мы же свои права осуществляли. Они подписывали письма в защиту кого-то и изредка (после 1968 года, наверное, мало кто) выходили на улицу с плакатами. Мы выходили с картинами и раз с плакатами, но действовали хитрее, не через подписи на ничтожных бумажках, а прямо «врубали» молодых людей в антисоветский образ мысли и, главное, жизни. У нас был громадный коллектив, каждый член которого одним своим видом влиял на бездну людей. А диссиденты по внешнему виду не отличались от остальных совков. И воздействовать напрямую им было не на кого – ни обсуждать, ни проповедовать, ни врубать, ни примером показывать. Они оставались очень замкнутыми людьми в своей среде и зачастую даже других диссидентов не знали. Поэтому к нам прибивались «доверисты», а не мы к ним. Например, даже на политической акции (в защиту разогнанных художников на Арбате и побитых на Гоголевском бульваре наших друзей) никаких плакатов или призывов к свержению власти не было, а только увещевание: «КГБ и МВД, возлюбите ближнего своего!» Над этим красовался православный крест, еще не модный, как в последующие годы. Я и придумал, и написал, и держал этот плакат. Были, правда, и более решительные лозунги, которые привезли «доверисты» или которые были сделаны по их наущению на той же акции, – например, против войны в Афганистане, – которые не противоречили нашим антивоенным убеждениям. Но времена жестоких методов разгона уже уходили, и сами власти изворачивались, терпели нас часа два у памятника Гоголю, а потом, не выдержав, высадили десант «рабочей молодежи»…
Мы продолжали невольно традиции художников, которые выставлялись сначала в Беляеве (вернее, в Конькове, она же Бульдозерная, но традиционно закрепилось это название последней на тот момент станции метро на той ветке), в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ (где среди прочих нонконформистов была от хиппи группа «Волосы»), потом на квартирах тоже. Я, если честно, не осознавал этого и практически почти ничего не знал про те выставки; даже ту знаменитейшую, что проходила прямо на углу моего дома через дорогу, под моими окнами, в которые я особо и не смотрел из-за унылого пейзажа, я своими глазами не видел, только последствия. Все акции мною придумывались спонтанно, и ни у кого, насколько я помню, из остальных ребят, участвовавших в организации выставок и тусовок, сравнений с предыдущим поколением бульдозерников-нонконформистов или с еще более ранними, типа поэтической тусовки у памятника Маяковскому, не возникало. Даже приходившие на Грибоедова, в квартиры и потом на Арбат художники того круга, которые десятилетием раньше сами участвовали в тех выставках, не особо и упоминали про них. Просто все, видимо, считали, что оно так идет само собой беспрерывно и по-другому и у нашего поколения не получится. То, что раз удалось выставить в Манеже и раз на ВДНХ, вряд ли повторится. Все знали, что художники и музыканты в СССР должны идти только официальным путем получения диплома, потом вступления в творческий союз или филармонию и только так становиться профессионалами и иметь возможность выставляться или играть на сценах. Такой средневековый цеховой принцип. Но он стал рушиться довольно давно, а уже с развитием перестройки сами комсюки стали подбивать под нас клинья и некоторые мои друзья ходили с ними встречаться (был такой видный комсомолец среди московских Юрий Резниченко). В принципе, при некоторой покладистости можно было пробовать организовывать выставки и концерты в комсюковских и прочих более-менее официальных местах, но это уже через года два-три, но на самом деле не все были готовы на сотрудничество с нашими гонителями. А в 1985-м и 1986-м ледяная глыба еще не подтаяла… И задача историка как раз в том, чтобы максимально подробно описать события и участников, а не какие-то писульки-манифесты, которые дальше квартир не выходили, а если выходили, то не имели поддержки и, главное, действия.
Не помню, чтобы тексты Диверсанта попадались мне на глаза, и даже тем, у кого они могли быть, типа Леши Фашиста, который много о нем рассказывал, хранить их было ни к чему. Может быть, их хранил Рубченко, но и у него, как он сам рассказывал (но на самом деле не факт), проходили обыски и изъятия. Саша Ришелье раз поставил свою подпись под какой-то петицией Диверсанта, где уже стояла сотня подписей, году в 1977-м. И манифест Мефодия был редкостью, и только два человека из тысячи хиппарей пробежали мимолетно его глазами, когда он им попал в руки, а так никому из нас не нужны были эти манифесты. Я помню, как Саша Сталкер с подругой Любой раздавали эти свои вымученные манифесты пиплу в «Туристе» и на входе в метро «Тургеневская». Никто почти не брал, потому что хиппи и был манифест сам по себе, который не нуждался в многословных объяснениях! Это же не абстрактное «искусство», которое требовало многотомного словоблудного объяснения, так как образного, визуального не имело! Хиппи был уже протестом, даже если он не произносил ни единого звука и не выходил ни на какие демонстрации. За что он был, было яснее ясного, – любовь, мир, свободу, радость, счастье.
Я недавно прочел, что Юра Солнце предал хиппарей и подставил их под убой, чего раньше никогда не слышал. Самого Солнца я никогда не видел, но верю в это слабо. Причем эту нескладную версию озвучил какой-то хмырь, молоденький довольно чекист, что якобы Юра был завербован и т. д. В первую очередь хочу сказать всем последующим исследователям и съемщикам фильмов, что этой гнуснейшей червивой породе подслушивателей, подсматривателей, фальсификаторов, запугивателей верить нельзя, запрещено моральными законами антисоветского человека! Они вруны, подлецы и просто мразота, поливающие и в отставке всех своих прежних оппонентов.
По поводу исследовательского подхода приведу еще один пример, более наглядный. Все знают Монмартр, вернее маленькую площадь Тертр, где сидят художники. Их видели и видят с послевоенных времен масса туристов, которые текут сюда беспрерывным потоком со всего света. Это одни из самых долженствующих быть известными людей на планете. Об этом месте написаны тонны всяких заметок, очерков, статей в путеводителях, журналах и газетах, а также в книжках, рассчитанных на поверхностное знакомство. И всегда поименно перечисляются те знаменитости, которые работали на Монмартре в мастерских, а не на улице, и почти никого из работавших именно на этой площади не упоминают. А потом бодренько так переходят к современным художникам, представляя фото двух-трех одних и тех же колоритных персонажей (кстати говоря, совершенно бездарных и нелюбимых своими коллегами), даже не называя их имен. Просто – вот были Утрилло, Пикассо и Дали (условно), а сегодня сидят сотни других… Все. Нет нигде понимания не только откуда эти-то сидельцы взялись, но и как толком это явление началось, ни имен и историй (и произведений) тех, кого можно увидеть сейчас и поговорить с ними. И при этом ни я, ни другие ни разу не слышали подобных расспросов ни от туристов, ни от историков-специалистов. Результат – вот же вы сидите тут 300 человек, а вас нет! Ни кто вы, ни откуда вы, какие у вас другие произведения и что у вас за плечами, какая история этого сидения и каких интересных людей вы рисовали, кому картины продавали и о чем говорили. Это об очень популярных в массе людях планеты! Никого не заинтересовали за 70 лет биографии тех, кто ушел и кого уже большинство не помнит даже из самих художников. Если чересчур обобщать, получилось бы опять общее место с рассуждениями необязательного, неинтересного и надуманного характера. Как о хиппи в ютубе: «Они были прекрасны, их идеалы были любовь и свобода» или «Они были ужасны и все полегли на поле неравного боя с наркотой»… Ни о чем… История должна писаться конкретно, точно и хронологично. А еще лучше летописно.
Так публицистику заканчиваю и возвращаюсь к хронике. Итак, в это время меня стали обхаживать «доверисты» Руль и Храмов, про которых моя вторая жена говорила: «Смотрите, Рулевой подхрамывает, и Храмов подруливает!»
Они действительно привязывались ко всем, но достаточно деликатно. Им нужно было заполучить твою подпись под каким-нибудь протестным документом. Их аргументы были убийственны: «Ну не хочешь же ты продолжения войны в Афганистане?» или «Ну не хочешь же ты, чтобы людей сажали в тюрьму за убеждения? Тогда подпиши!» Уклониться было непросто, и я, как мог, увиливал. Но подписавшие какой-нибудь такой листочек (который эти вербовщики тут же прятали) через несколько дней имели последствия: их допрашивали уже как участников группы «Доверие». Это были и Саша Мафи, и Света Конфета, и Арыч, и Гелла, и многие другие. То есть, имея подпись нового лица, в самой группе (я не знаю механизм, но Кривов совершенно откровенно и цинично рассказывал в конце 90-х, что группа эта была создана и функционировала только для эмиграции) это лицо считали новым участником группы, и создавалась видимость ее растущей популярности. Ирина Гордеева нашла-таки пару моих подписей под их документами. Видимо, не увернулся.