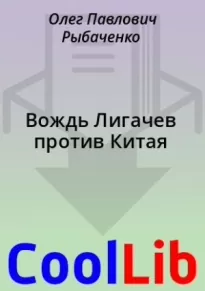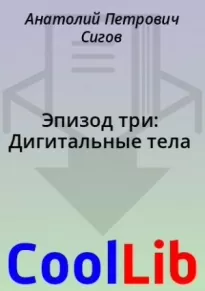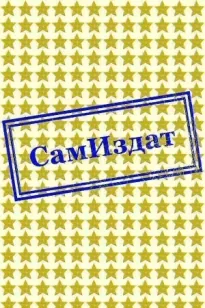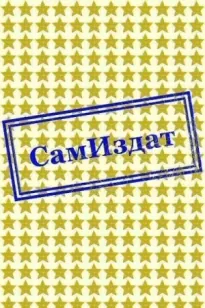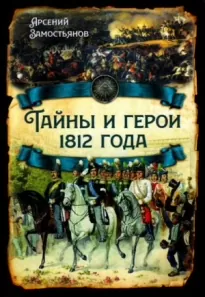Американки в Красной России. В погоне за советской мечтой
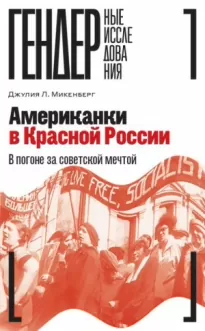
- Автор: Джулия Микенберг
- Жанр: Культурология / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Американки в Красной России. В погоне за советской мечтой"
Квакеры и феминистки
Из-за того что квакеры стремились помогать остро нуждающимся и не ставили перед собой никаких политических целей, британские и американские квакерские миссии почти беспрепятственно налаживали контакты и с русским народом, и с американской публикой, которая щедро жертвовала средства на их деятельность. АКДСО появился в России практически сразу после основания организации в 1917 году, когда ее представители вошли в состав делегации от Комитета британских Друзей по оказанию помощи жертвам войны (КБДОПЖВ). После того как контроль над американской гуманитарной деятельностью перешел к ARA, которая обычно не допускала к работе волонтеров-женщин, исключение все-таки было сделано для АКДСО, так как входившие в него женщины уже работали в России. Таким образом, в годы борьбы с голодом единственными сотрудницами гуманитарных миссий в России были те, кто работал под эгидой АКДСО[182].
Конечно, и среди квакеров не было единства во мнениях о режиме большевиков, и многие активно высказывались против него – и прежде всего сам Гувер. Однако и в британских, и в американских гуманитарных организациях руководящие должности занимали люди, не видевшие принципиального противоречия между обещаниями большевиков построить новый мир на основе равенства и справедливости – и призывом квакеров создать царство Божие на земле. Среди последних даже некоторые наиболее активные противники большевистского режима признавали, что полезно налаживать связи с рабочим движением и левыми, особенно же с теми, кто не желал бы напрямую оказывать поддержку ARA.
Меньше чем за месяц до того, как Луиза Брайант и Джон Рид впервые посетили Петроград, чтобы осветить ход революции, Анна Дж. Хейнс и еще несколько женщин, представлявших АКДСО, приехали в Бузулук, город на западе Оренбуржья, где годом ранее КБДОПЖВ создал пункт, чтобы оказывать помощь почти трем миллионам беженцев, которым пришлось покинуть Польшу и соседние области под натиском наступавших немцев. Когда Хейнс подала заявление в АКДСО с просьбой принять ее на работу (а произошло это в июне 1917 года, то есть менее чем через месяц после основания организации), ей было тридцать лет. По ее собственным словам, она была рослой, «чересчур полной для своего роста», но «весьма энергичной» и отличалась «отменным здоровьем». В 1907 году она окончила колледж Брин-Мор, где изучала политику и экономику, затем преподавала в средней школе, служила в Детском бюро при Департаменте здравоохранения США и три года проработала в Норт-Хаус – сеттльменте в Филадельфии. Потом она была инспектором в бюро здравоохранения в Филадельфии. Хотя Хейнс и происходила из квакерской среды, сама она прямо говорила, что хотела получить «эту работу не из религиозных побуждений». При этом она объявляла себя пацифисткой и выражала готовность работать бок о бок с теми, кем двигали именно религиозные мотивы[183].
Во время этой первой поездки Хейнс возглавляла американскую группу, координировала взаимодействие с британскими квакерами и выступала посредницей между конторой АКДСО в Филадельфии с Советской Россией. Она посетила Россию трижды, оставалась в стране подолгу и в общей сложности провела там почти десять лет, работая в миссиях, помогавших то жертвам войны, то голодающим, и в санитарных организациях. В какой-то момент Хейнс вернулась в США, чтобы пройти обучение на сестру милосердия, с тем чтобы потом открыть в России специальное училище для будущих медсестер. Хейнс нельзя было отнести к пламенным радикалам, но она была убеждена, что большевистский режим всерьез заботится о русском народе вообще и о детях в частности. В статье Хейнс «Московские дети», опубликованной в марте 1922 года, запечатлено то отношение к советским детям, которое разделяли Хейнс, Уоттс и многие другие волонтеры тех первых советских лет[184]. Хейнс вспоминает, как однажды наблюдала на улице за военным парадом, и рядом с ней оказался «приземистый крестьянин, у которого на плече сидел резвый ребенок». Потом мальчик нагнулся и попросил отца спустить его на землю. «Отец поднял сына еще выше. „Давай гляди, малыш, – сказал он. – Мне отсюда только штыки видать – хоть ты что-то еще увидишь“».
Этот эпизод показался Хейнс символичным:
Куда бы я ни попадала в течение тех трех лет, когда я колесила по стране вдоль и поперек, работая с Друзьями, я видела, как взрослые – и мужчины, и женщины, в чьих глазах всегда отражались штыки, поднимали на руках детей, чтобы хоть им оказалось видно «что-то еще».
Признавая, что «Советская Россия – не идеальное государство», Хейнс все же утверждала, что «духовные перемены», происходящие в народе, пожалуй, ярче всего проявляются в системе образования. Она рассказывала о том, как учителя сидят в нетопленых классах, где нет ни карандашей, ни тетрадок, ни учебников, и вершат настоящие чудеса новаторской педагогики, какие она только видела, а дети в восторге от учебы. Более того, лишения, которые выпали на долю этих мальчиков и девочек, как будто служили им источником роста и развития:
Обязанности и невзгоды, неизвестные детям других, более благополучных стран и времен, явно наделили этих детей совершенно особыми достоинством, мудростью и сдержанностью.
Первые впечатления от России Хейнс получила на железнодорожном вокзале во Владивостоке в 1917 году, где особенно ощущался вызванный войной наплыв беженцев. Там высаживались из товарных вагонов и, не имея возможности ехать дальше, скапливались толпы мужчин, женщин и детей, вынужденных покинуть родные края и бежать от наступающих немецких войск.
Сотни грязных беженцев – старики в зловонных тулупах, женщины в волочащихся по земле юбках, дети в лохмотьях, из-под которых виднелись искусанные паразитами тельца, костлявые младенцы, порой завернутые просто в газету, – лежали и ползали по грязному полу большого вокзала… Они привезли с собой сыпняк и брюшняк, холеру, скарлатину, дифтерию, цингу, малярию и всевозможные кожные болезни… На каждой станции длинной транссибирской железной дороги стояли телеги, груженные мертвецами, которых выбрасывали из товарных вагонов, и только в первые дни еще хватало времени на то, чтобы втыкать в землю кресты над общими могилами[185].
Хотя Хейнс и не была журналисткой, ее яркие описания всех этих ужасов особенно живо действовали на читателей благодаря тому, что она непосредственно общалась с русскими и к тому же хорошо зарекомендовала себя в АКДСО. Гуманитарный дискурс, продвигавшийся квакерскими волонтерами вроде Хейнс, был не менее важен, чем дискурс, в рамках которого профессиональные журналисты старались заручиться поддержкой для русского народа, а также одобрением работы, проделанной большевиками, – особенно в сфере заботы о детях.
Прошлый опыт Хейнс (работа в благотворительных учреждениях, в Детском бюро и т. д.) соответствовал представлениям старшего поколения о реформаторшах, которые смело продвигали «матернализм», то есть всеми силами отстаивали права матерей и детей. Но у других волонтеров из АКДСО было больше общего с феминистками вроде Луизы Брайант, на что указывают имевшиеся между ЧКАЖ и АКДСО связи. Хотя ЧКАЖ и был организацией, отпочковавшейся от феминистской Национальной женской партии, в его публичных заявлениях применялся гуманитарный, «матерналистский» дискурс (пропитанный христианским сентиментализмом), в центре которого находилась забота о невинных мирных гражданах, особенно о детях. Пусть самый разрекламированный проект ЧКАЖ – снаряжение «рождественского корабля» – так и не удалось осуществить (главным образом из-за продолжавшейся блокады), казначей комитета Джессика Смит передала всю собранную сумму – около 3500 долларов – в АКДСО. Она также предложила собственные услуги, причем в любом качестве, чтобы помочь в работе организации на территории России[186].
Выпускница Суортмор-колледжа и дочь художника-пейзажиста Уильяма Грэнвилла Смита, Джессика Грэнвилл Смит родилась в 1895 году в Мэдисоне (штат Нью-Джерси). По окончании колледжа она работала в Национальной американской женской суфражистской ассоциации в Нью-Йорке, а затем в организации Национальной женской партии в Вашингтоне (округ Колумбия). Еще она активно участвовала в деятельности миротворческих и социалистических организаций, в том числе – в Женской международной лиге за мир и свободу, в Лиге контроля над рождаемостью и в Межвузовском социалистическом обществе (в последнем она заняла должность исполнительного секретаря). Смит была проницательна и привлекательна, и позднее одна из коллег по АКДСО называла ее «прекрасным созданием с роскошными золотыми волосами». Преподаватель Смит охарактеризовал ее как человека, который «думает самостоятельно, но не имеет привычки делиться с остальными результатами своих размышлений», а также утверждал, что она «нисколько не поддается действию внешних чар»[187].
Хотя Смит и училась в квакерском колледже, она не принадлежала ни к какой религиозной общине. Однако, подавая заявку в АКДСО о работе на миссию комитета в Россию, она заявляла: «Если бы я решила вступить в какую-либо религиозную организацию, то это были бы Друзья». Свою готовность стать волонтером она объясняла стремлением «содействовать духу интернационализма». Конкретнее же она выражалась так:
Я ощущаю, что должна как-то помогать, – а помогая людям в другой стране, я смогу и удовлетворить свое желание принести кому-то пользу прямо сейчас, и, быть может, лучше подготовиться к тому, чтобы потом помогать людям и в моей стране[188].
В своей заявке Смит честно признала, что у нее мало навыков, требующихся для работы в гуманитарной миссии; однако как активная суфражистка она уже работала с самыми разными людьми, организовывала мероприятия и писала агитационные материалы, а эти-то навыки очень могли пригодиться. Кроме того, недостаток опыта Смит надеялась компенсировать энтузиазмом и готовностью браться за любую работу, которую ей дадут, поэтому она добавляла, что может выехать в Россию в любой момент. Она не скрывала своих политических симпатий: «Я верю в Революцию и солидарна с большинством целей большевиков». Но, сохраняя приверженность квакерским принципам ненасилия, она все-таки упоминала о том, что считает «предосудительным применение силы». По ее словам, «России следовало бы позволить идти собственным путем, оказывая ей помощь по мере наших сил».
Очевидно, из-за неблагоприятного момента заявка Смит так и осталась лежать без дела: в январе 1919 года и американские, и британские квакерские гуманитарные миссии покинули Россию из-за множества сложностей и угроз, вызванных Гражданской войной, блокадой, делавшей связи с сотрудниками гуманитарных миссий в России почти невозможными, а главное – из-за нараставшей враждебностью большевиков по отношению к иностранцам. Хейнс, желавшая остаться в России, примкнула к миссии Американского Красного Креста в Сибири, но эта работа приносила ей гораздо меньше удовлетворения: она сетовала, что АКК, в отличие от квакеров, занимался в первую очередь «медицинскими и военными вопросами», не уделяя должного внимания проблеме беженцев в долгосрочной перспективе. Она отмечала «отсутствие серьезной цели в деятельности АКК, нежелание вникать в ситуацию и направлять усилия на самые нужные, хотя, быть может, и менее эффектные виды работы»[189]. В июне 1919 года Хейнс была уже в США.