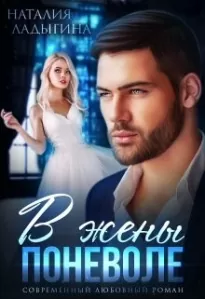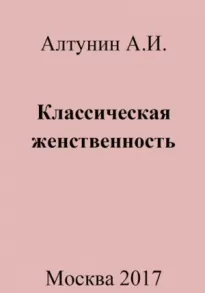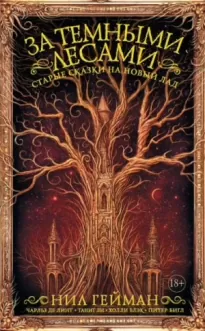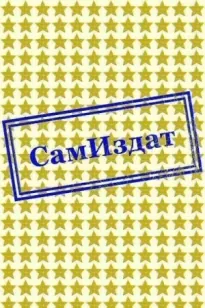Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934
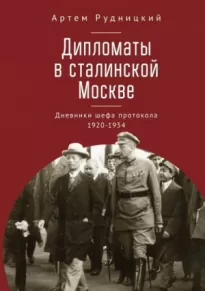
- Автор: Артем Рудницкий
- Жанр: Биографии и Мемуары
Читать книгу "Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934"
Ранцау отличался аристократической надменностью и ставил себя очень высоко, гораздо выше остальных дипломатов, к которым чаще всего относился со смешанным чувством снисхождения и презрения. И не утруждал себя налаживанием связей в дипкорпусе, полагая, что любой дипломат рано или поздно появится в германском посольстве, рассчитывая разузнать что-либо новенькое. Уже незадолго до своей кончины (посол покинул Москву в 1928 году и вскоре его не стало) он позвал Флоринского на официальный прием с участием глав других миссий и крупных советских деятелей, высказавшись о них пренебрежительно и высокомерно: «Я пригласил Вас, чтобы Вы посмотрели, как крупные животные интимно суетятся»[291].
Флоринский ценил в Брокдорфе-Ранцау понимание важности дипломатического протокола и вообще воспитанность, благородство и умение держать себя в обществе. Германский посол снисходительно относился к его усилиям ввести «упрощенный протокол» (прекрасно сознавая вынужденный характер такой меры), но сам оставался аристократом и дипломатом «до мозга костей» (выражение Хильгера)[292]: «Степень, до которой он доходил в своей чувствительности к стилю, была в самом деле какой-то навязчивой идеей по своей природе… За его болезненной чувствительностью к манерам стояло гипертрофированное чувство личного достоинства, выражавшееся в огромном высокомерии. Но надменность Ранцау не была просто ограниченной гордостью предками аристократа, которому нечем похвастаться, кроме своих благородных прародителей; у него было нервное, придирчивое высокомерие эстета, который вобрал в себя высочайшие стандарты своей культуры и презирал тех, кто был не способен достичь тех же самых высот»[293].
Однажды он не без удовольствия поставил на место польского посла Станислава Патека, когда тот не позвал его на обед для членов Коллегии НКИД, хотя Ранцау был дуайеном дипкорпуса. Германский посол заявил, что «после такого рода неприличия его ноги не будет в польской миссии». Патек всполошился, сообразив, что допустил промах и послал извиняться советника Альфреда Понинского, передав, что не хотел подобным образом «умалять» Ранцау. Однако тот такого извинения не принял: «Я ответил этому идиоту, – сказал Ранцау, – что его шеф, г. Патек, не может умалить меня, графа Ранцау, германского посла, он может лишь делать гафы[294], за которые и несет заслуженные последствия». После чего потребовал письменной сатисфакции и вскоре получил от Пате-ка письмо с извинениями»[295].
Ранцау сменил Герберт фон Дирксен – тоже аристократ, но несравнимый со своим предшественником. «Ему далеко до Ранцау», – констатировал Флоринский[296]. Светский человек, с огромным состоянием, но при этом «корректный сдержанный чиновник, не обладающий особенно широкими горизонтами». В своих оценках шеф протокола не щадил нового посла: «У него нет талантов блестящего собеседника; скорее замкнут в обществе, даже в небольшом непринужденном кругу. Нет у него и чувства достоинства, как у Ранцау. …когда как-то зашел разговор об ошибках Германии во время первой мировой войны… не только не оборвал этого бестактного разговора, а поддакивал своим собеседникам. Мне думается, что в ориентации Дирксена имеется изрядная доля преклонения перед могуществом Англии; мне кажется также, что его политика в отношении СССР не имеет под собой столь же твердой базы осознанной необходимости, как у Ранцау»[297].
Десятилетие двадцатых заканчивалось, наступало постепенное охлаждение в советско-германских отношениях, и Дирксен оказался не той фигурой, которая могла бы затормозить или повернуть вспять этот процесс. Германское посольство перестало быть центром жизни дипломатической Москвы, главную роль теперь играли итальянцы. Да и сам Дирксен прислушивался к итальянскому послу Витторио Черутти, которого сотрудники НКИД между собой звали не иначе, как «фашистом».
Ранцау был политическим тяжеловесом, ему не требовалось никаких усилий, чтобы притягивать к себе внимание и привлекать зарубежных коллег. А Дирксену для этого следовало предпринять определенные шаги, но он этого делать не стал. «Надежды на то, что германское посольство окажется светским центром, не оправдались, так как ни посол, ни особенно м-м ф. Дирксен не обладают для этого никакими талантами. Никакого салона у себя м-м ф. Дирксен не создает. В Корпусе с ней не считаются и не уважают, доминирующую роль по-прежнему играет м-м Черутти»[298].
Флоринский акцентировал, что собирается «бороться за Дирксена, противопоставить советские влияния враждебным влияниям»[299]. Бесспорно, это подчеркивалось в расчете на «читателей», чтобы лишний раз продемонстрировать свою активность, незаменимость и готовность отстаивать советские интересы. Впрочем, нет оснований сомневаться, что шеф протокола добросовестно выполнял свою задачу, возможности для этого имелись.
Дирксен приехал с женой, «и посольство холостяка превратилось в более уютный семейный дом»[300]. Флоринский сумел установить с ними «очень хорошие личные отношения». Жену летом возил плавать на Москва-реку, с мужем садился за «интимные партии бриджа, до которых он большой охотник». Все это взятое вместе создавало «полезную атмосферу близости и интимности»[301]. Что, между прочим, нашло отражение в романе Курцио Малапарте: «Он (Флоринский – авт.) был очень дружен с супругой германского посла и погожими летними деньками, когда члены иностранного дипломатического корпуса отправлялись покататься на лодках на Москва-реке или в Коломенском, в нескольких милях от Москвы, Флоринский и баронесса почти всегда плыли в одной лодке, на веслах сидел Флоринский»[302].
Он прилагал немалые старания, чтобы создать у немцев максимально благоприятное впечатление о советской действительности, показывал им страну с лучшей стороны. В январе 1932 года повез германских дипломатов на завод АМО[303] (так его продолжали называть по старинке, хотя к тому времени официально уже успели переименовать в Завод имени Сталина). Это предприятие считалось визитной карточкой столичной индустриализации и дипломатов туда направляли регулярно. Даже Хильгер, «строгий и предубежденный критик», проявивший «наибольшую энергию и любознательность», резюмировал свои впечатления так: «АМО самый образцовый завод из всех вновь созданных и реконструируемых заводов, которые мне приходилось видеть в СССР, а я пересмотрел их почти все». Юргис Балтрушайтис, тоже принявший участие в поездке, «определил произведенное на немцев впечатление кратко и выразительно, но нецензурно». Судя по тональности отчета Флоринского, в положительном смысле, для усиления эффекта. Свою роль, наверное, сыграло и то, что на заводе стояло немецкое оборудование, и в его модернизацию вносили немалый вклад немецкие фирмы[304].
Однако сохранить высокий уровень двустороннего сотрудничества не удалось – в связи с приходом в Германии к власти нацистской партии и Адольфа Гитлера. В феврале 1933-го, вскоре после поджога Рейхстага, у Дирксенов организовали прием, камерный, только для избранных. Были итальянский посол Марио ди Стефанти, польский советник Хенрик Сокольницкий, американский журналист Уолтер Дюранти (шеф бюро «Нью-Йорк Таймс» в Москве) и Флоринский. «Дирксен мрачноват. Чувствовалась некоторая натянутость. Также молчалив за столом был обычно разговорчивый Сокольницкий»[305].
Дюранти, только что вернувшийся из Берлина, описывал свои берлинские впечатления – он присутствовал при пожаре Рейхстага. И критиковал статью Карла Радека в «Известиях». По всей видимости, имелась в виду статья «Падение доллара и воцарение Гитлера». Автор расценивал победу нацистов как признак углубления кризиса и упадка капиталистической системы, как «судороги фашистской реакции» и недооценивал силу и возможности этой «реакции». «Насколько слабой она сама себя чувствует, – писал Радек, – лучше всего показывает тот факт, что ей пришлось украсть у революционного пролетариата красное знамя и майский праздник. Собираясь “уничтожить марксизм”, она из страха перед пролетариатом должна пытаться мистифицировать его собственными символами. Но это ей не поможет»[306]. Дюранти, записал Флоринский, «удивлялся, что т. Радек, обычно хорошо разбирающийся в немецких делах, совершил ошибку в неподписанной статье (но безусловно принадлежащей его перу), дающей оценку положения. Дюранти пояснил (повторив соображения, высказанные в его телеграмме), что эта ошибка состоит в недооценке патриотизма и национализма, превалирующих в Германии над всеми другими моментами, в том числе и классовым»[307].
Догматично рассуждавшие идеологи большевизма не могли поверить, что чувство патриотизма и национализма и стремление поквитаться со всем миром за чудовищные послевоенные унижения затмят классовое сознание немецких рабочих, и в большинстве своем они поддержат Гитлера и его политику захватов.
Что же касается приверженности гитлеровцев социалистической символике, то для НКИД это создавало проблемы не только морально-идеологические, но и протокольные. В конце апреля 1933 года обнаружилось, что германское посольство (не по личной инициативе Дирксена, а по указанию из Берлина) решило в честь 1 мая, Дня труда (в Германии считался государственным праздником), вывесить на зданиях миссии и генконсульств флаги со свастикой, наряду с традиционными трехцветными, черно-красно-желтыми. Заведующий 2-м Западным отделом Давид Штерн 25 апреля доложил об этом замнаркома Николаю Крестинскому.
Налицо имелась попытка пропаганды фашизма, особенно учитывая, что 1 мая широко праздновалось в СССР. Тут же возникали нежелательные мысли о сходстве, если не близости коммунистического и нацистского режимов. Однако формальных оснований запретить вывешивание флагов не было, даже принимая во внимание, что прежде немецкие представительства вывешивали флаги только раз в году, к национальному празднику. Что было делать? Неофициально договориться с немцами едва ли удалось бы, рассуждал Крестинский: это «можно было бы только в том случае, если бы отношения между нами и гермпра носили налаженный дружелюбный характер. При нынешнем напряженном состоянии этих отношений невозможно ставить подобный вопрос». Оставалось лишь пригрозить, что в таком случае «и наш флаг будет поднят над зданиями полпредства и торгпредства в Берлине и генконсульств в Гамбурге и Кенигсберге»[308].
Вне зависимости от того, как разрешилась эта ситуация, было очевидно – напряженность в двусторонних отношениях нарастает. Это проявлялось и в мелочах. В июле 1933 года к Флоринскому пришел Хильгер и сообщил, что рядом с особняком Дирксенов через громкоговоритель на полной мощности велась «передача речи на немецком языке, самым резким образом клеймящей германский фашизм и содержащей выпады против германского правительства». Каждое слово было отчетливо слышно во всех углах посольского сада. Мадам Дирксен с племянницей «прослушали всю речь и в панике поехали в посольство докладывать об этом послу». Понятно, рассуждал Флоринский, «в какое тяжелое положение ставят Дирксена подобные радиопередачи, раздающиеся в его саду». То был «как раз приемный день м-м фон Дирксен; создается большой конфуз, если бы подобная радиопередача повторилась в присутствии членов дипкорпуса»[309].