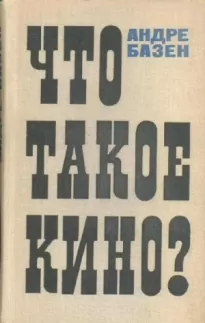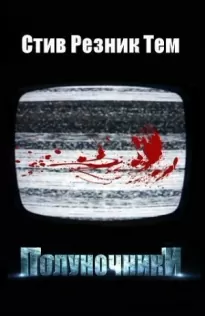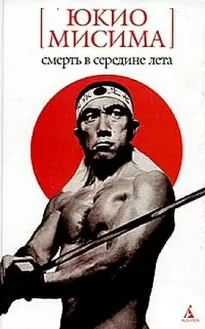Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935

- Автор: Лиля Кагановская
- Жанр: Кино
- Дата выхода: 2021
Читать книгу "Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935"
Глава 3 «Гомогенно мыслящий субъект», или как советское кино научилось петь. «Гармонь» Игоря Савченко
Как единственный жанр, невозможный в немом кино, мюзиклы были неизбежны. Ричард Барриос. Песня во тьме: Рождение музыкального фильма [Barrios 2010]
Одна из дискуссий, связанных с появлением звука в кино, была сосредоточена на вопросе о том, как в звуковом кинематографе должна работать музыка. В 1931 году в статье для французского журнала «Plans» композитор Артюр Онеггер заметил:
Звуковое кино косноязычно. В данный момент музыка и звук всего лишь дополнительно выделяют что-то, хотя и чуть более успешно, чем оркестровый аккомпанемент. Звуковое кино займет свое собственное место, когда достигнет столь крепкого единства между изобразительным и музыкальным выражением одного и того же, что они будут разъяснять и дополнять друг друга на равных. Этот синтез будет рождением интересного искусства, адресованного одновременно и наравне двум органам чувств [Honegger 1931: 77][142].
Как отметила Джули Хабберт рассматривая теорию киномузыки Эйзенштейна, на протяжении немого периода теория киномузыки зачастую фокусировалась на идее музыки как иллюстрации кадров. Ее целью являлось добавление чего-то к «настроению» и атмосфере картины на экране с помощью музыкальных стереотипов, «условной радостной или грустной музыки», например, или воспроизведение звука конкретных акустических событий, изображаемых на экране, – таких, как «музыкальное соответствие грозам, поездам, звукам животных и т. д.». Помимо этого, «практика закрепления тем для опознавания тех или иных персонажей, эмоций или событий в фильме и повторения этих тем в манере Вагнера или в качестве лейтмотивов для создания тематического единства» также составляла значительную часть ранних дискуссий о киномузыке [Hubbert 2008: 127]. С другой стороны, звуковое кино, для которого было необходимо, чтобы звук и жест «служили друг другу», не признавало ни традиционной театральной игры, ни манеры игры немого кино, – по словам режиссера Рене Клера, это был «не театр и не кино, но нечто совершенно новое»[143].
Мы можем проследить фрагменты этой дискуссии на страницах советского журнала «Жизнь искусства» за 1929 год, где обсуждалась «кинофикация музыки». Дискуссия была начата А. И. Пиотровским, главой сценарного отдела «Ленфильма», который попытался определить отношение музыки к новому звуковому кино – «тонфильме». Пиотровский считал, что для того, чтобы музыка стала истинно современным искусством (что в его случае означало «революционным искусством» – в противовес буржуазному), она должна преобразиться по аналогии с кинематографом авангарда. Кино, по Пиотровскому, является индустриальным искусством, основанным на двух принципах: «на индустриальной технике, как методе закрепления материала, и на монтаже, как методе его организации». Точно так же и музыка должна стать возможностью «фотографировать звучания мира, независимо от той или иной материальной природы звука». «Это означает реконструкцию музыки по принципам кино-искусства» (то есть принципам монтажа) – и тогда возможность «собирать на пленке неорганизованные натуралистические куски мировых звучаний» приведет к новому виду искусства: к тонфильме как «чистой новой музыке» [Пиотровский 1929а][144].
Другими словами, музыке было чему поучиться у кино. Для Пиотровского современная музыка находится в состоянии кризиса: обычная ее форма не индустриализирована и потому является отсталой; Пиотровский называет это «кустарной техникой». Этот кризис никак нельзя разрешить путем обращения к музыке народов мира или включения музыки «первобытных примитивных народов», в том числе негритянской музыки. Напротив, он считает, что музыка должна стать «индустриальной» – фотографической записью звуков мира, организованных с помощью монтажа [Пиотровский 1929а]. (В сущности, это то, что Дзига Вертов сделает в «Энтузиазме: Симфонии Донбасса» (1930).)
В статье, подводящей итог дискуссии, С. Грее отбрасывает довод Пиотровского относительно «кинофикации музыки», а также необходимости развивать технологии записи «натуральных звучаний мира» и их организации с помощью монтажа. Тем не менее он соглашается, что часть проблемы неиндустриализированной музыки заключена в ее уникальном, единичном воспроизведении – ее «разовости» и «неповторимости». По словам Греса, даже по радио, чей аппарат вещания «вполне индустриализован», каждый акт исполнения музыкального произведения происходит лишь однажды – и здесь не хватает «механизированного повторения». Выступая против граммофона как мелкобуржуазного изобретения для отдельных комнат, которое, таким образом, обладает малой ценностью для советской массовой культуры и советского общества, Грее подчеркивает его ограниченные возможности также и в смысле громкости и длительности звучания – из-за размеров пластинки, на которой записана музыка. Игла граммофона сделала свое дело, говорит Грее, но следующий шаг – это «звуковая фотография» [Грее 1929: 2].
Предвосхищая Вальтера Беньямина, Грее отмечает, что механическое воспроизведение принесет музыку массам в ее зафиксированном раз и навсегда виде. Одна и та же запись будет помещена в коробку и разослана «всем-всем-всем», по городам и селам, где она будет звучать «неограниченное количество раз без какого-либо художественного ущерба и со всеми необходимыми градациями силы – ив комнате, и в концертном зале, и под открытым небом, – везде, где есть несложный воспроизводящий аппарат и обычные атрибуты радио: усилитель и громкоговоритель» [Грее 1929: 3]. Для Греса звуковой фильм представляет собой именно этот момент индустриализации (механического воспроизведения) музыки, опирающейся на одновременную запись и воспроизведение звуковой дорожки и изображения. Он отмечает «настойчивое стремление “Великого немого” обрести, наконец, дар речи» [Грее 1929: 2], так же как и в целом необходимость в аппарате, который позволил бы синхронную (одновременную) запись и одновременное же воспроизведение «элементов движения и звука». Цель всего этого – одновременно «говорящее» и «звучащее» кино.
Проблема кино и музыки затрагивается в этих же номерах «Жизни искусства» и В. М. Богдановым-Березовским в ходе дискуссии вокруг выхода фильма «Новый Вавилон» (режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг, 1929) [Богданов-Березовский 1929]. Богданов-Березовский отмечает, что впервые музыка создавалась специально для фильма: Шостакович написал оригинальное музыкальное сопровождение для новой работы ФЭКСов. Однако отсутствие необходимой техники для производства синхронного звука, как в записи, так и при воспроизведении, означает, что даже специально написанная музыка остается технически отделенной от него. «[М]ожет ли быть [музыка к “Новому Вавилону”] названа музыкой кино7. — спрашивает критик, – если демонстрация фильма механизирована, то не должна ли подвергнуться механизации и музыка, сопровождающая показ фильмы на экране? Ведь только этот путь обеспечивает неразрыв ленты от ее музыкальной иллюстрации!» [Богданов-Березовский 1929].
Разочарование ранней киномузыкой частично может объясняется нехваткой синхронизированной и механизированной звуковой аппаратуры, в результате чего (в случае «Нового Вавилона») тщательно разработанная партитура Шостаковича не могла быть адекватно воспроизведена в кинотеатре. Как отмечает Джоан Титус, критики того времени утверждали, что именно музыка Шостаковича послужила причиной неудачи фильма – либо из-за ошибок в копировании, либо из-за нехватки репетиций, что привело к несовпадению с фильмом, либо из-за музыкальной сложности партитуры. Советский музыковед Ю. Я. Вайнкоп писал, что «[и] грают эту музыку повсеместно отвратительно, и справедливость требует отметить, что заботливее остальных к ней отнесся М. В. Владимиров ([дирижер в кинотеатре] “Пикадилли”), добившийся максимума опрятности и выразительности и минимума ошибок и темповой неразберихи» [Вайнкоп 1929; Titus 2004: 52][145]. Другие критики также сообщали, что показы в кинотеатрах Ленинграда и Москвы не имели успеха. Л. О. Арнштам отмечал, как плохо музыка Шостаковича исполнялась в кинотеатрах, и утверждал, что композитор перебегал из одного кинотеатра в другой лишь для того, чтобы обнаружить, что оркестры коверкали его музыку до неузнаваемости [Арнштам 1976: 115–116][146]. Так как ноты раздавались оркестрам кинотеатров лишь за несколько дней до премьеры, у них не было времени на репетиции. Кроме того, эти оркестры не имели привычки исполнять специально подобранную партитуру такого уровня сложности.
И все же, как показывает Титус, возможно, проблема заключалась не в музыке Шостаковича, а технические аспекты были не единственными причинами предполагаемого провала фильма. Новые доводы о «советскости» и доступности кинематографа впервые были применены именно к «Новому Вавилону». В соответствии с директивами Всесоюзного партийного киносовещания 1928 года фильм должен был быть «понятным», и его очевидная модернистская стилистика вызвала противоречивые и часто негативные отклики. Как отмечает Титус,
рецензенты жаловались, что фильм слишком “формалистский” или “эстетизированный”, используя формулы, предвосхищавшие критический дискурс последующих десятилетий. Для критиков, устремленных к новой эпохе понятности и – неминуемо – к социалистическому реализму, это часто означало, что монтаж фильма – слишком быстрый и фрагментарный, а манера съемки и освещение – слишком темные и импрессионистические [Titus 2014: 53][147].
Нужно отметить, что к 1929 году страницы «Жизни искусства», как и других советских киножурналов и газет, были полны фразами о «кризисе советского кино» и очевидной неспособности советских фильмов быть «понятными массам». «Мы называем нашу кинематографию советской, – писал ленинградский режиссер П. П. Петров-Бытов в другой статье в том же журнале. – Имеем ли мы право так ее называть в настоящий момент? По моему мнению, не имеем права». «У нас нет кинематографии для рабочих и крестьян», – жалуется он, нет кино, которое говорило бы о быте масс, на что массы отвечают уходом из кинотеатров.
Эти массы – рабочие и крестьяне – являются истинной публикой советского кино, публикой, которую почти совершенно не принимают во внимание радикальные кинематографисты авангарда:
Что мы дадим крестьянке, думающей своими тяжелыми, неповоротливыми мозгами о муже, ушедшем на заработки в город, о корове, заболевшей в грязном хлеву туберкулезом легких, о голодной лошади, сломавшей ногу, о ребенке, который шевелится под сердцем? Что мы ей дадим? Что предложим? «Новый Вавилон»? «Веселую канарейку»? Какое вавилонское варварство с нашей стороны! Какое тупое паразитическое самодовольство на вершинах культуры! [Петров-Бытов 1929: 8]
«Для крестьян нам надо создавать простые, реалистические, с простой фабулой и сюжетом картины, – продолжает Петров-Бытов. – <…> Говорить надо родным, задушевным языком о корове, заболевшей туберкулезом, о грязном хлеве, который надо переделать на чистый и светлый, о ребенке, который шевелится около сердца крестьянки, о яслях для ребенка, о хулиганах деревенских, колхозе и т. д. и т. д.» «Каждая картина должна быть полезной, понятной и родной массам <…>, – особо выделяет он. – Вокруг нас столько похабщины, грязи, нищеты, грубости и тупоумия», что советское кино должно расковырять эту «грязь» на «куче навозной, которая зовется бытом», чтобы открыть «прекрасную жизнь», спрятанную глубоко внутри [Петров-Бытов 1929: 8] (курсив оригинала).