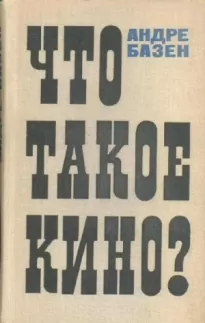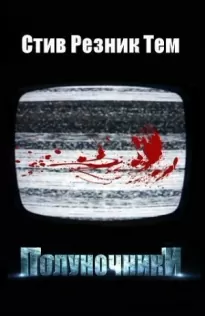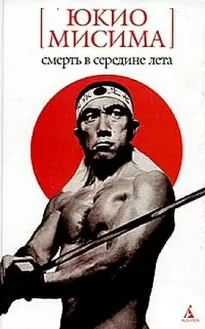Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935

- Автор: Лиля Кагановская
- Жанр: Кино
- Дата выхода: 2021
Читать книгу "Голос техники. Переход советского кино к звуку. 1928–1935"
«Аэроград»
«Аэроград» – это фильм о городе будущего, городе, который еще не построен – и не будет построен к моменту завершения фильма. Это фильм воплощает мечту о советской экспансии на Дальний Восток, до самого Тихого океана. Довженко объявил о планах по созданию нового фильма, действие которого происходит на Дальнем Востоке, 25 июля 1933 года и начал сотрудничать над сценарием с писателем А. А. Фадеевым[203]. Фильм создавался в очень напряженное с политической точки зрения время. Убийство члена Политбюро и главы Ленинградской парторганизации С. М. Кирова 1 декабря 1934 года открыло дорогу массовой ксенофобии, паранойе и арестам[204]. К середине 1930-х годов Советский Союз начал охоту за «внутренними врагами», но ощущал также и растущую угрозу извне – от фашистской Италии, нацистской Германии и имперской Японии, – и «Аэроград» частично отражает это параноидальное состояние. Фильм рассказывает о вовлечении и исключении; об иностранной интервенции и капиталистическом окружении; о тех путях, которыми враги могут проникнуть в Советский Союз, и о путях, которыми друзья могут стать врагами. Более конкретно: страх вызывают «чужие» – нерусские, которые угрожают Советскому Союзу как изнутри, так и извне.
Что еще важнее, в «Аэрограде» мы обнаруживаем уничтожение индивидуального голоса и его замену голосом государства. Теперь все направлено на производство определенного рода речи, которая делается слышимой благодаря использованию для передачи смысла прямого обращения. В «Аэрограде» Довженко конструирует новую технологию звука как «голоса власти», который раздается напрямую с экрана. Вопрос здесь заключается именно в обращении: Довженко использует в своем фильме звук для того, чтобы сделать понятие «прямого обращения» слышимым на экране. Звук не выглядит естественным, – наоборот, зритель постоянно обнаруживает, что герои говорят с ним напрямую с экрана. Фильм в целом построен вокруг права на речь, и его необычные формальные приемы прямого обращения вовлекают зрителя в этот речевой акт.
По выражению одного из советских биографов Довженко А. М. Марьямова, фильм состоит исключительно из хорошего и плохого, черного и белого, без полутонов: «Тьма и свет, добро и зло. К этим прямым – без светотеней – противопоставлениям Довженко прибегает в “Аэрограде”» [Марьямов 1968: 240]. Начальные титры не только называют участников фильма, но также указывают их идеологические позиции, включая «партизан Дальнего Востока» (колхозников, охотников в тайге, летчиков, красноармейцев); старого партизана и охотника на тигров Степана Глушака, по прозвищу Тигриная Смерть, и его сына, летчика Владимира; друга Глушака и «изменника родины» зверовода Василя Худякова; китайского партизана Ван-Лина; молодого чукчу; а так же «староверов, сектантов и кулаков, бежавших от нас в сибирскую глушь». Уже в этих начальных титрах мы отмечаем прямое обращение к зрителю: староверы, сектанты и кулаки, «бежавшие от нас» в сибирскую глушь. Следующий титр еще больше подчеркивает обращение к зрителю и его вовлечение: «Да здравствует город Аэроград, который нам, большевикам, надлежит построить на берегу великого океана».
Фильм открывается звуком самолета и двумя мужскими голосами, поющими о зове Тихого океана. Пока самолет летит над тайгой, зритель наслаждается видом с высоты птичьего полета на леса, ручьи и, наконец, сам океан. Как и в своих предыдущих картинах, Довженко показывает красоту мира природы, но в этот раз экран заполняет не «политически неблагонадежная» Украина, а советский Дальний Восток. Как и в «Иване», общие планы спокойной воды сменяются крупными планами разбивающихся волн, а все ускоряющийся темп музыки вносит ноту тревоги в эту в целом спокойную сцену. Более того, титры прерывают визуальный ряд, направляют наши ощущения и организуют наше восприятие изображений, больше не удовлетворяясь тем, чтобы просто позволить красивым кадрам земли и воды «говорить» самим за себя. «Между Беринговым морем, где гуляют льды и эскадры наших китов, и устьем сверхреки Амура у берегов Японского моря укорачивается старый свет и суживается великий океан», – объявляют нам три титра.
Мужские голоса, поющие о зове города Аэрограда как о зове Родины («Он зовет меня, как Родина зовет, Город сердца моего – Аэроград»), резко контрастируют с женским хором, исполняющим традиционную украинскую песню в «Иване», а образы мира природы быстро сменяются образами советской власти. В следующем кадре мы видим, помимо гуляющих льдов и эскадры «наших» китов, эскадрилья самолетов, которые пролетают над головой, и лодки, которые проносятся по воде, принося в эти девственные места техническую и военную мощь государства. Как отмечает Эмма Уиддис, если тайга понятна тем, кто умеет ее «читать», то вид с воздуха, напротив, это взгляд «центра и освоения. Он хочет преобразить тайгу – из пространства тяжелых испытаний и завоевания в пригодную для обитания и обитаемую территорию государства» [Widdis 2003: 153–154]. Оркестровая музыка отражает сначала величавый вид земли внизу, а затем ее героическое покорение – при этом партитура возвращается к мелодии песни, которую мы слышали раньше, но теперь в более быстром темпе. А затем мы видим первый повествовательный титр: «Через амурскую границу несут чужие люди динамит – шестеро русских и двое нерусских». «Внимание, – говорит второй титр, – сейчас мы их убьем».
Второе лицо множественного числа включает здесь нас, зрителей, в повествование фильма и помещает на правильную сторону идеологического разлома. Очевидно, мы не иностранцы, не другие, не «чужие»; очевидно, мы «русские» (в смысле, который явно шире простой этнической принадлежности и предполагает разделение мира на врагов и друзей). И все же кадры тайги, когда мы спускаемся вниз, на землю, слишком дремучи, чтобы мы могли ясно видеть свой путь. В этой дикой природе есть нечто нечленораздельное, мы не можем пробраться через растительность, кадры стремятся вместить слишком много всего сразу, и мы как бы подавлены размахом, который пытается охватить камера. (Другими словами, Довженко здесь больше не избегает перегруженности общего плана; у него так же другой оператор – Э. Т. Тиссэ[205].) Более того, в фильме сразу же затрагивается тема способности «читать» тайгу и отмечается, что нечто непонятное иностранцу легко может прочитать охотник, который хорошо ориентируется на местности.
Как и большинство реплик фильма, это утверждение кажется демонстративным. Мы одновременно включены в эту картину и исключены из нее. Мы не охотники со специальными знаниями, мы, пожалуй, ближе к тому «чужому», на которого охотится охотник. А то, чему мы становимся свидетелями в первом эпизоде – это уничтожение таких «чужих»: шести русских и двоих нерусских, на которых охотится Глушак, наш сибирский проводник.
Пока Глушак преследует двух «нерусских» в дебрях тайги, мы слышим две разных звукозаписи. Первая – музыкальное сопровождение; вторая – тяжелое дыхание и тихие, невнятные звуки, которые издают двое японцев. Добравшись до просеки, они решают разойтись в разные стороны, и их прощание выражено с помощью телесных жестов и мимики, а не обычной речи. Мужчины расходятся, снова сходятся и затем, нагибая шеи, словно животные, испытывающие боль, разбегаются в разные стороны: то есть, перед нами еще один пример «манихейского бреда» описанный Дайером. Два японских шпиона лишены языка – или, по крайней мере, человеческого языка; вместо этого они общаются с помощью жестов и знаков, словно их родной язык им недоступен. Пойманный Глушаком первый из японских шпионов вытаскивает блокнот и читает из него на ломаном русском (как делают это в фильме и корейцы, и китайцы, и чукчи). Русский представляется единственным возможным языком в фильме. Все другие языки – иностранные, «чужие» – немы; они не могут быть воспроизведены русской / советской кинотехнологией. Другими словами, в своем втором звуковом фильме Довженко чересчур дотошно исправляет ошибки предыдущего внимания к украинской речи. На этот раз послание не искажается из-за помех, из-за близости языков, наоборот, оно будет провозглашено громким и звонким голосом.
Более того, этот голос настолько громок и звонок, что совершенно разрушает «звуковой барьер» фильма, разбивая «четвертую стену», чтобы обратиться к зрителю напрямую. В фильме есть несколько примеров прямого обращения, когда актеры поворачиваются к камере и декламируют свои реплики, будто бы произнося монолог на сцене или читая стихотворение, словно в кино нет места естественной речи. «Сейчас войдем и убьем», говорит Глушак в своем первом прямом обращении к зрителю. Всегда использующий первое лицо множественного числа Глушак – это голос государства, провозглашающего свой вердикт спокойно и рационально, не окрашивая его эмоциями. В каждом случае он одновременно присяжный суд и палач, а его прямое обращение к зрителю вовлекает нас в его действия.
Как уже часто замечали критики этот фильм, по всей видимости, оправдывает сталинские репрессии, аресты и убийства. Так же как и в показательных судебных процессах, японский диверсант, будучи «арестован» Глушаком в разгар бегства, зачитывает длинный список причин своей ненависти к Советскому Союзу – стране, у которой есть много богатств (но из которой он исключен), к ее природным ресурсам, людям и животным, к ее «спокойной вере» в светлое будущее. Он признается, что заложил в лесу динамит, и таким образом дает Глушаку законное право его убить: «В своей гибели ты расписался без ошибок», – говорит ему Глушак.
И все же, как и во всех фильмах Довженко, здесь больше двусмысленности, чем это может показаться на первый взгляд. «Аэроград» усложняет четкую бинарность «манихейского бреда», показывая нам мир, где намного труднее – и даже почти невозможно – определить разницу между «своим» и «чужим», «тем же самым» и «другим». Действительно, мы можем утверждать, что, хотя на первый взгляд в фильме основной интерес представляют те «чужие», которые живут за пределами его границ, на самом деле его создателей больше волнуют те, кто живет внутри – другими словами, не двое нерусских, а шестеро русских. В этом фильме представление о враге не ограничивается японскими (или итальянскими, или немецкими) фашистами или даже «староверами, сектантами и кулаками, сбежавшими от нас в таежные дебри». По сути дела, авторов фильма заботит тот «свой», который на самом деле является «чужим». Как отметил Питер Кенез, за семь лет, с 1933 по 1939 год, советские режиссеры сняли 85 фильмов о современности. Более чем в половине из них (в 52) герой или героиня разоблачает скрытых врагов, совершивших преступления. Бдительность героя не может быть чрезмерной: «В “Аэрограде” Довженко врагом оказывается его [героя] лучший друг, в “Бежине луге” Эйзенштейна – отец героя, а в “Партийном билете” Пырьева – муж героини» [Kenez 2001: 149].
Казнь Глушаком своего друга детства Худякова (которого снова играет любимый актер Довженко – Степан Шкурат) – старого охотника, отказывающегося забросить свой маленький надел и присоединиться к коллективу – преподносится нам как «естественное» последствие предательства Худякова и также является отзвуком чисток и арестов, показательных судов и расстрелов середины тридцатых годов. Почти застреленный по ошибке в начале фильма, Худяков оказывается виновен в том, что прячет второго японского диверсанта, в убийстве китайского партизана Ван-Лина и в том, что борется против советской власти, присоединившись к группе сектантов. Худяков не кулак в общепринятом смысле, и мотив его предательства кажется никак не связанным со старообрядчеством, с ненавистью к большевикам или даже с боязнью прогресса. Напротив, его мотивы скорее объясняются истинным пониманием того, как работает советская власть. Во время короткой паузы перед кульминационной сценой борьбы Худяков стоит и смотрит на несколько диких оленей, собранных в колхозе. «Вот таких <…> 75 голов отобрали и прикрепили ярлычки», – объясняет он. Предательство Худякова словно исходит из почти фукольдианского ощущения структуры знания как формы власти. Прикрепляя ярлычки на этих оленей, советское правительство практикует некую форму биовласти, которая распространяется на землю, море, животных и людей.