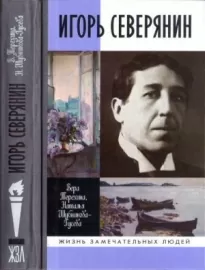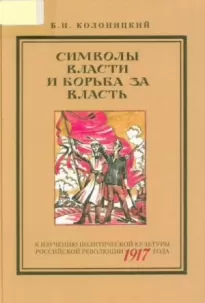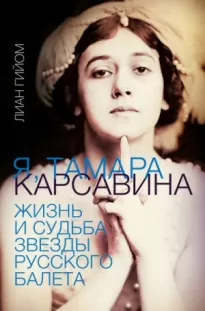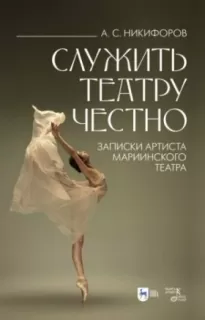Русский святочный рассказ. Становление жанра (2-е издание)
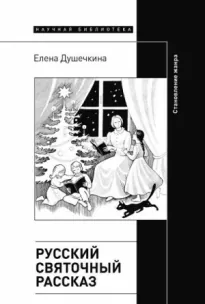
- Автор: Елена Душечкина
- Жанр: Литературоведение / Культурология
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Русский святочный рассказ. Становление жанра (2-е издание)"
Сидельцы и дворовые люди, приходившие за ними [газетами. — Е. Д.] по субботам в университетскую книжную лавку, собираются кружками и читают их на улице прежде своих хозяев[387].
Второе отличие «Суженого» от «Повести о Фроле Скобееве» и его новиковской переделки, для Погодина весьма существенное, состоит в характере разработки образа главного героя. Фрол Скобеев и Селуян Сальников — плуты, мошенники, проходимцы. Они обманывают, шантажируют, выдают себя за других, умыкают своих будущих жен и, хотя авторы этих повестей не дают прямой оценки действиям своих героев, положительными их назвать никак нельзя. Иван Гостинцев у Погодина не только положительный, но даже образцовый и идеальный, по представлению автора. Лишенный каких бы то ни было корыстных намерений, полагаясь только на себя, он добивается поставленной перед собой цели «честным» путем. Та маленькая хитрость, на которую он пошел, явившись в виде суженого гадающей героине, не только не компрометирует его, но наоборот — демонстрирует его находчивость. Такой поворот в трактовке образа главного героя для молодого Погодина неслучаен. Он явился результатом размышлений о соотношении личной инициативы и судьбы в жизни человека:
Каждый человек действует за себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется другой вечный план, и из суровых, тонких и гнилых нитей биографических сплетается каменная ткань истории[388].
Как в «Повести о Фроле Скобееве» и в повести И. Новикова, так и в «Суженом» центральный эпизод приурочен к святкам. Несмотря на различную трактовку образа главного героя, общность их сюжетной схемы позволяет рассмотреть все три повести как варианты одного и того же «святочного» сюжета.
«Васильев вечер», опубликованный в трех номерах «Телескопа» за 1832 год, относится к типу так называемых «страшных» святочных повестей. Судя по ироническому замечанию автора в заключении к тексту «Васильева вечера», он выполнил данный ему «социальный заказ»: «Журналист заказывал мне написать ему на зубок сказку для первых книжек пострашнее, ибо, де, это любит наша любопытная публика»[389]. «Сказка на зубок» написана по заказу Надеждина, приступившего в начале 1831 года к изданию «Телескопа». Таким образом, журнал, по замыслу издателя, должен был открыться «святочной» повестью, но текст Погодина, во-первых, несколько запоздал, а во-вторых, оказался слишком объемным и растянулся на три номера (один январский и два февральских). Судя по отзывам, и автор, и издатель добились желаемого результата: им удалось «попугать публику» и дать читателям увлекательное чтение. Так, А. В. Веневитинов после выхода в свет первых номеров «Телескопа» пишет Погодину: «Телескоп, скажу тебе мимоходом, читается во Дворце, где фрейлины все перепуганы твоею страшною повестью»[390].
В «Васильевом вечере» «страшные» ситуации действительно нагромождены одна на другую. Сначала героиня после святочной вечеринки глубокой ночью и в одиночестве гадает на зеркале и видит в нем отражение кого-то страшного и непонятного. Призрак оказывается разбойником, который требует у нее «ключи от денег». Героиня спускается с ним в подвал, где одного за другим убивает двух разбойников, а третьему отрубает кисть. Через несколько месяцев вышедшая замуж за разбойника, назвавшегося сыном старинного друга ее отца, героиня попадает в разбойничий притон, где в отместку за убитых товарищей ее хотят сжечь живьем. Она бежит, еле-еле спасается от погони, и разъяренные этим бегством разбойники сжигают дом ее отца. И наконец, автор подводит читателя к благополучному финалу: разбойничий притон в лесу разгромлен, а героиня вторично выходит замуж за оказавшего ей помощь в бегстве купеческого сына, которого разбойники заманили к себе «случайно».
Повесть «Васильев вечер» восходит к сюжету восточнославянской сказки «Девушка и разбойники»:
Девушка, оставшись одна дома, замечает спрятавшегося разбойника и убивает его; товарищи убитого являются сватать ее, увозят к себе; девушка убегает от них, прячется от погони в дупле, в сене, на возу у мужика и т. п.; спасается[391].
Вариации этого сюжета встречаются в записях народных сказок в разных районах России. Наиболее близок к погодинской повести вариант, изданный А. Н. Афанасьевым[392]. Общие мотивы повести Погодина и сказок многочисленны: отлучка родителей, девичьи посиделки, убийство забравшихся в дом разбойников, увоз героини в разбойничий притон, угроза страшной мести, помощь одного из разбойников в бегстве, прятанье на дереве / в дупле, расправа с разбойниками, вторичный брак с разбойником, помогшим в бегстве (в повести Погодина героине помогает купеческий сын, в сказках — Ванька-повар[393], «кривой»[394] или Иван-дурак[395]).
Обращение Погодина к литературной переработке народного сказочного сюжета симптоматично: к концу 20‐х годов XIX века возникает мода на художественную обработку сказок. Давние и органичные связи Погодина с устным народным творчеством привели его к возможности обработать сказочный сюжет для создания «простонародной» повести с использованием мотивов о разбойничьей авантюре, также весьма популярных в это время. Как пишет Трубицын,
от темы о разбойниках не уклонился и сам Пушкин, давший Дубровского 1832–33 гг., со многими дефектами в фабуле — обычными в таких темах. Здесь же необходимо помянуть, конечно, о Марлинском, Вельтмане, Загоскине, Погодине (напр., «Васильев вечер»), Гоголе — о начальных его опытах[396].
Разбойничья тема воспринималась в это время как «страшная», наряду с темой о привидениях (ср., например, с восклицанием «дам» в очерке, помещенном в «Москвитянине»: «Ах! расскажите нам что-нибудь о разбойниках и привидениях…»[397]).
В «Суженом» Погодин обращается к переделке известного сюжета и фиксирует свое внимание на святочном эпизоде, который является ключевым как для «Повести о Фроле Скобееве», так и для новиковской его переделки. В «Васильевом вечере» девичьи супрядки, указанные в ряде вариантов сюжета «Девушка и разбойники», Погодин превращает в святочные девичьи игрища. В обоих случаях он дает скрупулезное изображение святочных обрядов: описывает игры, гадания, включает тексты подблюдных песен. В обеих повестях именно гадание героини явилось поворотным эпизодом в ее судьбе. Какую же роль играют святки в повестях Погодина? Конечно, немаловажным для него является создание русского «простонародного» колорита. Погодин сам страстно ратовал за «необходимость изображения русской народной жизни»[398]. Описание святочных игрищ связывалось в его сознании с восприятием столь любимой им старины. Отсюда включение в текст иногда вовсе безразличных к сюжету этнографических подробностей. С этой точки зрения повести Погодина, по мнению А. И. Соболевского, «заслуживают внимания историка литературы и историка этнографии»[399]. В «Повести о Фроле Скобееве» этнографический элемент отсутствует. Здесь автору не было нужды описывать обряды и обычаи, а достаточно было лишь назвать их: как живое явление русской жизни XVII–XVIII столетий они не требовали подробных описаний. Но со временем ситуация изменилась, и даже Погодин, интересовавшийся фольклором и этнографией, не сумел воспроизвести их достаточно точно. По выходе в свет «Васильева вечера» С. А. Хомяков написал ему письмо с замечаниями, касавшимися именно этнографии святок:
С новым удовольствием прочел отрывок Васильева вечера, но на него осмеливаюсь вам сделать следующее замечание как старик, который смолоду иногда участвовал в святочных играх… —
после чего следует опровержение одних игр и песен, приведенных Погодиным, и даются названия и даже тексты других, которые, на памяти Хомякова, игрались и пелись на святках[400].
Однако роль святочных эпизодов в повестях Погодина не сводится к одной этнографии. Смысл и назначение гаданий — угадывание будущего, судьбы. В этом состоит специфика именно святочного времени. Так, Погодин, изобразив святки, наполнил их специфически «святочным» содержанием: именно на святках произошло определение судеб героев. При этом Погодин не пользуется характерной для некоторой разновидности святочных рассказов фантастикой. Простодушная вера народа в результаты гаданий не находит подтверждения в жизни, однако именно эта вера позволяет «подправить» судьбу, что и делают герои повестей Погодина. Не обладай героиня «Васильева вечера» Настенька отвагой, смелостью, быстротой реакции, она бы погибла. Не обладай герой «Суженого» Иван Гостинцев сметливостью, умом, творческой хитростью, не добился бы он своей возлюбленной. Иван Гостинцев хитрил, как и Фрол Скобеев, но не преступал закона: он не стал соблазнять и красть возлюбленную, но сумел, опираясь на ее суеверие, убедить ее в том, что он и есть ее суженый.
Видимо, Погодин рассматривал свои повести как определенного рода исторические и психологические эксперименты (см. название цикла его повестей: «Психологические явления»[401]). Дело в том, что почти одновременно с написанием повестей у Погодина вырабатывается система исторических воззрений: в промежутке между 1823 и 1826 годами он работает над «Историческими афоризмами». Обычно считается, что «Исторические афоризмы» отражают увлечение Шеллингом, философию которого Погодин, «несмотря на совершенно нефилософский склад ума»[402], старательно пытается усвоить и понять ввиду ее популярности в кружке Веневитинова, членом которого был и Погодин. Впрочем, судя по всему, он не отказался от своих «Афоризмов» и позже: в 1836 году он издает их отдельной книгой[403], а четверть века спустя, уже в 1860‐е годы, посылает экземпляр этого издания Толстому с тем, чтобы подтвердить совпадение своих взглядов на историю, и в частности на вопрос о свободе и необходимости, со взглядами Толстого в «Войне и мире»[404]. Б. М. Эйхенбаум даже делает предположение, что «Исторические афоризмы» Погодина повлияли на историческую концепцию «Войны и мира»[405].
Некоторые афоризмы Погодина представляются важными для понимания идейного замысла его повестей. Так, Погодин пишет: «Нет, мы не слепые орудия высшей силы, мы действуем, как хотим, и свободная воля есть условие человеческого бытия, наше отличительное свойство»[406]. Вопрос о фатализме Погодина оказывается не вполне прост и однозначен, и некоторые его высказывания (в том числе и приведенное выше), а также «святочные» повести — свидетельство того, что Погодин тяготел к преодолению фатализма, и необходимость как «фатальное исполнение предначертанного свыше»[407] отвергается им. Повести Погодина «Суженый» и «Васильев вечер» являются художественной иллюстрацией тезиса о том, что не провидение, а энергия и предприимчивость определяют судьбу человека, делают его счастливым и благополучным («Суженый»; ср. высказывание Погодина: «Надо из жизни сделать счастье»[408]) или спасают его от верной смерти («Васильев вечер»). Тем самым основная тема святочных гаданий — угадывание судьбы — получает в «святочных» повестях Погодина своеобразное толкование. В «Суженом» явившийся «на ужин» гадающей героине Иван Гостинцев действительно оказался ее суженым, но все дело в том, что это стало возможным лишь в результате волевых усилий героя. В «Васильевом вечере» противоречивые результаты гаданий, предшествующие появлению разбойников, действительно «предсказывают» будущие страшные события, но героиня (эта, по определению автора, «мужественная дочь дикой природы») выступает как активное лицо в борьбе с судьбой и побеждает. Здесь фатализм Погодина разрушается верой в практическую сметку.