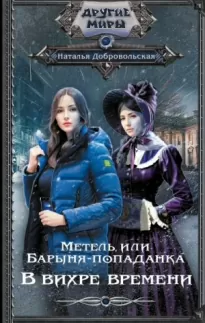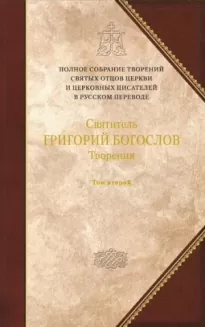История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад
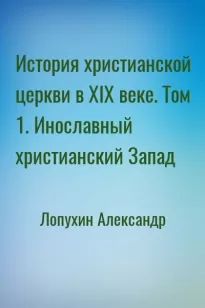
- Автор: Александр Лопухин
- Жанр: Религия и духовность: прочее
Читать книгу "История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад"
10. Папство в борьбе с духом нового времени
Роль иезуитов в римской церкви. – Стремление их возвратить корабль св. Петра к средним векам. – Неизбежные столкновения с духом новейшего времени. – Пробуждение свободной мысли в Германии и усилия иезуитов подавить ее. – Гермес и его богословие. – Борьба иезуитов против гермесианства. – Горячий поборник папства. – Вопрос о смешанных браках. – Арест двух архиепископов. – «Немецкий католицизм» и сущность этого движения. – Другие попытки к основанию национальных церквей и причина их неудач. – Григорий XVI и импер. Николай I. – Любовь Григория к науками и искусствам. – Кончина Григория XVI.
Когда у руля корабля ап. Петра стали сыны Лойолы, то курс его круто изменился, и корабль на всех парусах понесся но направлению к восстановлению того духа и тех форм, которые считались уже отжившими и находили свой идеал в средних веках. Это направление вполне совпало с личным настроением Григория XVI, который в XIX веке хотел быть вполне средневековым папой. Уже в 1832 году он издал энциклику, в которой объявлял непримиримую войну новейшей науке и всем требованиям новейшего времени – с его идеями свободы совести и печати, и все его папствование представляло собою настойчивое стремление к проведению этих средневековых принципов в окружающую действительность. Это естественно должно было привести папство к целому ряду столкновений с новейшими государствами, и особенно резко это столкновение обнаружилось в Пруссии, где оно прямо приняло характер ожесточенной борьбы, представляющей интересную страницу отношений между папством и новейшими государствами.
Когда по венскому договору 1814 года к Пруссии отошли рейнские и другие немецкие области, густо населенные римско-католиками, то в этом государстве политически сочетались две совершенно противоположные в духовно-религиозном отношении силы – протестантизм и римский католицизм. Силы эти в сущности непримиримые, но, вследствие постоянного соприкосновения, все-таки между ними должно было произойти некоторое духовное общение чрез взаимное влияние, и оно выразилось в ряде замечательных явлений, причем протестантизм отчасти способствовал оживлению умственной самодеятельности среди римских католиков, а римский католицизм с своей стороны содействовал смягчению суровой ортодоксии и возрождению духа церковности среди протестантов. Но если римская церковь вполне довольна была при виде влияния римско-католических начал на протестантов (особенно, когда последние прямо обращались в лоно римской церкви), то тем ревнивее она относилась ко всем влияниям протестантской мысли на римских католиков, и верная своему средневековому идеалу беспощадно карала и давила все духовные движения, видя в них опасную тенденцию духовного самоопределения по началам протестантизма. Между тем, под влиянием сближения с протестантизмом, новейшие умственные течения проникали и в область римской церкви, и среди ее богословов нередко выступали лица, которые, не удовлетворяясь отжившими методами богословской мысли, не прочь были оплодотворить ее методами новой философии. Таков был знаменитый боннский богослов Гермес. Но его богословствование возбудило сильное подозрение в иезуитах, и вследствие этого они приняли все меры, чтобы подавить этот новый дух, чего и достигли с бессердечною жестокостью.
Гермес, пережив тяжелую школу неверия и скептицизма, господствовавшего в конце XVIII века, пришел к убеждению, что старые методы защиты религии и церкви потеряли свое значение для новейшего времени. Новое время требовало и новых методов. Поэтому он углубился в изучение новейшей философии, особенно Канта и Фихте, и пришел к убеждению, что если у этих философов и не все было удобоприемлемо для богословия, то их метод был превосходен и мог оказать важные услуги делу религии, давая ей возможность отыскать для себя непререкаемые основы в самых законах нашего мышления. С этой точки зрения он написал ряд превосходных сочинений (как «Введение в христокатолическое Богословие» 1829 г., «Христокатолическая Догматика» посмерт. изд. 1831–4 гг. и др.), в которых, прилагая к богословию философский метод, успешно поборол неверие и скептицизм в самых его первоосновах. Этот новый метод он применял и в своей профессорской деятельности. Лекции его по богословию отличались необычайною жизненностью, и так как в них богословие ставилось на совершенно необычную почву чисто разумного изыскания и оправдания существеннейших истин христианства, то они производили огромное впечатление. Аудитории его постоянно были переполнены восторженными слушателями еще в Мюнстере, где он профессорствовал в 1807 – 1820 годы; но слава его особенно возросла, когда он перешел в знаменитый Боннский университет. Этот университет, основанный (в 1818 г.) щедростью Фридриха Вильгельма IV, который в своем меценатстве решил своим детищем затмить все другие германские университеты, действительно, быстро занял передовое положение среди других университетов и отовсюду стягивал к себе лучшие силы. Богословский факультет его получил особенную известность, так как в нем более чем в других университетах предоставлялась свобода богословского умозрения – отчасти, быть может и вследствие того, что Бонн по самому положению своему стоял, так сказать, на международном рубеже, в котором сходились веяния не только из Германии, по и из соседних Франции и Голландии, которым он по временам принадлежал. В этом-то новом храме науки, более свободном от старых традиций, чем все другие университеты с их более или менее средневековым укладом, представился полный простор для свободного богословского умозрения Гермеса, которое не только соответствовало живым запросам времени, но увлекало и внутренней силой убедительности, и своеобразною свежестью самого метода. Молодежь была в восторге от нового профессора, и скоро около него собрался кружок восторженных учеников, которые вполне усвоили себе метод учителя и сделались впоследствии распространителями его почти по всей Германии, по мере того, как лучшие из его учеников постепенно занимали университетские кафедры и в других городах22.
Понятно, какое небывалое оживление внесено было этим в мертвую дотоле схоластику римско-католического богословия, которое оцепенело в светобоязни и не шло дальше механического повторения сухих формул средневековой догматики. Для многих это было в высшей степени отрадным откровением, и давало наглядное доказательство того, что богословская наука может состоять и в чем-то другом, кроме повторения схоластических положений, что она может стать на один уровень с другими науками и смело призывать разум к оправданию и утверждению вековечных истин христианства, что она одним словом может быть столь же жизненна, как и само вечно живое христианство. Но было бы удивительно, если бы не нашлись и такие, которые были недовольны таким обновлением и оживлением богословской мысли. Им казалось подозрительным все это оживление богословской мысли, а увлечение им со стороны молодежи даже и прямо опасным. В самом деле, тут богословие сводилось на философскую почву, пособниками его являлись такие мыслители, как Кант и Фихте, которые придавали слитком много значения разуму, разрушали старое миросозерцание, самые доказательства бытия Бога, на которых догматика покоилась с давних времен, считали недостаточными и все подвергали беспощадной критике и сомнению. Уж не потому ли и богословствование Гермеса получило такую жизненность, что оно всецело прониклось скептицизмом новой философии и, таким образом, разжигало сомнения в молодых умах? И вот не замедлила явиться оппозиция, которая стала во враждебное отношение к популярному богослову. Сначала втихомолку, а потом и открыто стала распространяться молва, что на богословском факультете в Бонне не все обстоит благополучно, и что там народилось направление, которое крайне опасно для римской церкви. Главными распространителями этой молвы выступили иезуиты, которые, после восстановления их ордена в 1814 году («по желанию всего христианского мира», как, с почти невменяемою наивностью, выразился папа Пий VII в своей знаменитой булле Sollicitudo от 1814 года), решили оправдать возлагавшуюся на них надежду, как на лучших стражей «правоверия». И открыто и тайно иезуиты успели составить довольно сильную партию, которая была недовольна Гермесом и его богословствованием. Тайные доносы полетели и в Рим, и оттуда уже послышались довольно явственные выражения недовольства. Мюнхенскому нунцию поручено было расследовать это дело. К счастью для Гермеса, архиепископом кельнским, которому подведомствен был боннский богословский факультет, был граф Шпигель, весьма образованный и просвещенный человек, который сам интересовался богословскими лекциями Гермеса и неоднократно лично беседовал с ним по богословским вопросам. Он не находил ничего опасного в воззрениях Гермеса и в этом смысле не раз отписывался в Рим, успокаивая зилотов уверением, что он и сам дорожит истиной, и первый подавил бы заблуждение, но такового не находит ни в учении самого Гермеса, ни его учеников. Тем не менее, оппозиция не успокаивалась и все настойчивее стала распространять молву, что Боннский богословский факультет сделался очагом новой опасной ереси – Гермесианизма!
Можно себе представить, сколько огорчений и неприятностей доставила эта подпольная вражда иезуитов знаменитому богослову, так глубоко принимавшему к сердцу интересы богословской науки, которой он посвятил лучшие годы своей жизни, трудясь над разрешением существеннейших для всякого христианина вопросов. Наиболее неприятная и опасная сторона этой оппозиции новому направлению состояла в том, что она в полном смысле была подпольная: какие-то темные силы, несомненно, работали над тем, чтобы сокрушить и задушить новое богословско-философское направление, повсюду распространялись разные темные слухи и толки, летели доносы к архиепископу и в Рим; но кто такие были эти враги, оставалось в сущности неизвестным. Они были неуловимы. Мало того, и в самых обвинениях, сыпавшихся на Гермеса и его школу, господствовала крайняя туманность и неопределенность: его обвиняли то в рационализме, то в пелагианстве, то в социнианстве, но никто не мог определенно сказать, в чем же именно. Все эти огорчения и неприятности не могли не отозваться на Гермесе, который заболел и в 1831 году скончался, оплакиваемый своими многочисленными учениками, из которых многие, как уже сказано, заняли университетские кафедры в разных городах Германии, особенно южной, а еще больше вступили в ряды духовенства, унося и в жизнь идеи своего славного учителя.
Смерть Гермеса не только не успокоила его врагов, а только еще более ободрила их в своем походе против его школы. При его жизни они не смели открыто выступать против него, так как обаяние его личности и авторитета было слишком велико в науке и образованном обществе, чтобы можно было безнаказанно обнаруживать свою враждебность к нему. Поэтому они действовали подпольным путем, ограничиваясь тайными доносами и инсинуациями. Но когда он сам сошел со сцены, то дело приняло более крутой оборот. Враги стали действовать открыто и беззастенчиво, и поход их еще более ожесточился, когда умер архиепископ Шпигель, до конца жизни остававшийся при своем мнении о благонадежности Гермеса и его учеников, и на его место назначен был Клеменс Август фон Дросте-Вишеринг, человек совершенно иных взглядов, узкоумный и подозрительный и притом уже давно враждебно настроенный к Гермесу, с которым у него было столкновение еще в Мюнстере, где он в качестве генерал викария выказывал явное неодобрение лекциям Гермеса: когда, по переходе Гермеса в Бонн, некоторые студенты богословия выразили желание последовать за ним и перейти в тот же университет, он даже угрожал им лишением права на занятие священнических мест. Это был человек, лучше которого и нельзя было найти иезуитам, и они его именно и выдвинули на кафедру кельнского архиепископа в надежде, что он с корнем вырвет зародившуюся в Бонне язву вольномыслия и ереси. И он вполне оправдал возлагавшуюся на него надежду. Но насколько дело приняло уже неблагоприятный для школы Гермеса оборот, показывает тот факт, что как только умер архиепископ Шпигель (2 авг. 1835 г.), и еще не был назначен, а только имелся в виду новый архиепископ, в Риме дело было уже решено на счет гермесианства. Под влиянием многочисленных доносов, в которых враги Гермеса не переставали доказывать весь вред и опасность его школы, расследовать этот вопрос с научно-богословской стороны в Риме поручено было так сказать, присяжному, вполне доверенному в Ватикане догматисту, известному ученому иезуиту Перроне, автору самой популярной и доселе в римско-католическом мире «Догматики». И этот ученый иезуит-догматист, хотя о нем известно было, что он почти совсем не знал немецкого языка, представил подробный разбор сочинений Гермеса и с поразительною беззастенчивостью, передерживая его мысли и прямо искажая его выражения, провозгласил немецкого ученого богослова опасным еретиком, который вполне заслуживал осуждения. Этот приговор присяжного догматиста решил судьбу Гермеса: в Ватикане изготовлен был в этом смысле декрет, который и был издан в виде папского бреве от 26 сент. 1835 года. В нем папа Григорий XVI, излив горечь своего сердца в жалобах на всевозможные козни врагов против церкви и сказав вообще о Гермесе, что он принадлежит к тем людям, которые «всегда учатся и никогда не приходят к познанию истины», осуждает и запрещает как его «Введение в христокатолическое богословие», так и «Догматику», где папа усматривает неудобоприемлемые и противные учению церкви выражения о сущности и правилах веры, о св. Писании, предании, откровении и учительной должности в церкви, об основах достоверности, о доказательствах бытия Божия, о существе Бога, Его святости, праведности, свободе и о цели творения, о необходимости благодати, о раздаянии ее даров, о наградах и наказаниях в здешней и загробной жизни, о первобытном состоянии прародителей, о первородном грехе и силах падшего человека. В качестве общего признака гермесианских заблуждений папа отмечает – явную наклонность к скептицизму и индифферентизму, пренебрежение к старой богословской школе, уклонение к еретическим мнениям, восстановление старых, уже осужденных заблуждений. Одним словом, с высоты папского престола учение Гермеса было объявлено ложным и вредным как в самом своем существе, так и в приложении ко всем существенным истинам христианской догматики и все главные сочинения его занесены в «Индекс» запрещенных книг.