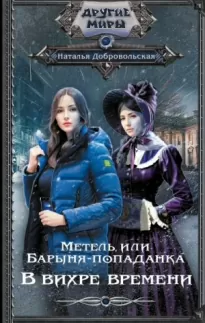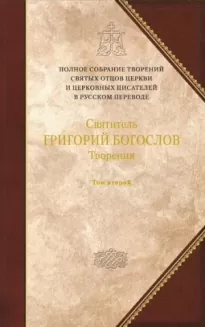История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад
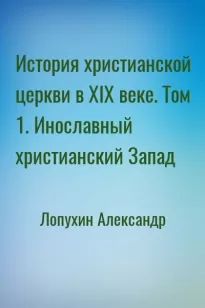
- Автор: Александр Лопухин
- Жанр: Религия и духовность: прочее
Читать книгу "История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад"
15. Папство и новейшая Франция
Новейшая Франция как главная распространительница духа неверия и отрицания. – Религиозные и политические смуты в ней. – Новейший выразитель этого отрицательного духа. – Эрнест Ренан и характеристика его личности. – Плоды его учения. – Культурная борьба во Франции. – Гонение на церковь. – Политика Льва XIII. – Признание республики и значение этого факта.
Из всех римско-католических стран более всего огорчений Льву XIII суждено было перенести от ого любимейшей дочери, давней покровительницы рим. Церкви – Франции. Эта жизни, начиная с прошлого века представляла из себя бурное море, в котором постоянно сменялись приливы и отливы в духовной жизни, причем то водворялось господство церкви, то опять ниспровергалось приливом дикого неверия и отрицания когда не только церковь с ее иерархией и орденами, но и само христианство подвергалось гонительству и издевательству. Эти колебания наглядно отображались на судьбе одного из замечательнейших храмов Парижа – так называемом Пантеоне. Это в классическом стиле здание заложил Людовик XV в качестве церкви в честь св. Женевьевы, покровительницы Парижа. Учредительное национальное собрание постановило обратить ее в место погребения великих сынов Франции. Поводом к этому послужил самый стиль здания в виде римского Пантеона, вследствие чего ему и дано было это языческое название, как соответствующее национальному назначению. На фронтоне надпись гласила: «великим людям признательное отечество». Тут погребен был прах Вольтера и Руссо, а также и преданнейших слуг Наполеона, и только «за недостатком великих мужей были погребены и некоторые кардиналы, сенаторы и сановники». По возвращении Бурбонов, гробы «фернейского патриарха» и женевского философа были удалены, и Пантеон опять был возвращен христианскому богослужению: «Св. Женевьеве посвятил Людовик XV, Людовик XVIII возвратил ей», гласила надпись. Но король Луи Филипп, стараясь угодить либеральной клике страны, опять велел восстановить надпись национального собрания, и в то же время воспроизвести ее в художественном изображении, вследствие чего фронтон был украшен рельефным изображением по мрамору. На изображении посредине в виде аллегорических фигур стоят Франция и Свобода. По одну сторону их – представители военной славы: Наполеон I – еще с длинными волосами, как он носил их, будучи республиканским генералом итальянской армии, а рядом с ним маленький барабанщик Виола, который на мосту Аркольском, под градом картечи, забил генеральный марш; около него разные герои Франции. По другую сторону представители гражданского порядка, причем сопоставлены лица столь противоположного характера, как Мирабо и Лафайетт, Фенелон и Лаплас, Руссо и Вольтер со своей саркастической улыбкой на искаженных губах. Когда в июле 1873 года открыто было это изображение, архиепископ Келен издал такого рода циркуляр священникам Парижа. «В виду великого соблазна, который пред лицом солнца выставляется на нашей святой горе, в виду этой более, чем святотатственной эмблемы, занимающей место креста Иисуса Христа, перед увенчанными изображениями безбожных, дерзких и соблазнительных писателей, поставленных на место изображения Смирения и пресвятой Девы, покров которой избавлял столицу от величайших бедствий, вера Хлодовика, Карла Великого и Людовика Святого, вера Франции издает болезненный вопль: вздохом и слезами духовенство и все верующие должны ответствовать на него. Да удовлетворится же Небо этим искуплением»! Затем последовало распоряжение о совершении в виде искупления, особых общественных молитв. При Наполеоне III Пантеон вновь посвящен был св. Женевьеве, пока новый переворот во мнении правительства не повел опять к восстановлению языческого культа в этом многостадальческом храме. Эти перемены в судьбе храма св. Женевьевы служат поразительным отображением судеб самой религии во Франции, которая, с конца прошлого века, будучи заражена ядом скептицизма и неверия, влитым в ее жилы Вольтером, в сущности, никогда уже не освобождалась от этого яда, отравлявшего все ее жизненные соки. Ожесточенная ненависть этого невера к церкви и христианству, выразившаяся в кощунственном призыве: «истребляйте гадину» привилась к французской интеллигенции настолько, что последняя, воспитавшись в полном отчуждении от церкви, при всяком удобном случае проявляла свою враждебность к ней и к самому христианству, иногда не стясняясь даже мерами насилия и угнетения. Этому настроению интеллигенции содействовал и другой писатель, который по своему влиянию на умы нашего века вполне может быть поставлен на один уровень с Вольтером, с тою однако разницею, что его влияние было гораздо глубже, так как он, не ограничиваясь поверхностным издевательством над истинами веры и христианства, а вооружившись якобы всеми данными новейших научных исследований, прямо в корне подрубал все христианство, низводя его на один уровень с естественными религиями и главнейшие его факты объясняя иллюзиями и фантасмагориями. Мы разумеем Эрнеста Ренана, автора пресловутой «Жизни Иисуса» и целой серии других подобных сочинений, пропитанных ядом антихристианства. Этот писатель – рационалист, пользовавшийся огромною популярностью, переходившею в некоторых кружках интеллигенции в своего рода суеверный культ, – поистине, был злым гением нашего века и можно смело сказать, что нет такого, более или менее крупного из зол, удручающих жизнь новейшего человечества, которого нельзя было бы поставить в генетическую связь с его писательскою деятельностью. Поэтому характеристика его личности и деятельности далеко не излишняя в картине умственных настроений нашего века.
Личность Э. Ренана представляет собою весьма интересное и даже поучительное явление в психологическом отношении, давая поразительный пример того, как в круговороте исторических веяний могут сбиваться с истинного пути и погибать для истины даже даровитые люди. Родом из Бретани (род. в 1823 г.) Ренан, как известно, получил свое первоначальное воспитание в самом глубоком церковно религиозном духе, отличающем вообще его соотечественников, которые, живя в стороне от всех треволнений современной мысли и жизни, с поразительною простотою и сердечностью хранят веру и предания своих отцов. В виду этого для родителей его не могло и представиться высшей цели честолюбия, чем то, чтобы сын их поступил в духовное звание и сделался священником, хотя этот шаг в римско-католической церкви имеет ту трагическую для родового честолюбия сторону, что с ним связан вопрос о прекращении рода. Маленький бретонец действительно поступил в местную провинциальную духовную семинарию, в своем родном городе Третье, где сразу обнаружил свое сильное дарование, которое вместе с глубоким религиозно -нравственным настроением давало повод духовно-учебному начальству надеяться, что из него со временем выйдет недюжинный поборник и представитель римско-католической церкви. С этою целью он для дальнейшего богословского и научного образования был отправлен духовным начальством в Париж, где и проходил курс сначала в общеобразовательной коллегии св. Николая, а затем в специально-богословской высшей школе св Сульпиция. Ренану в это время было около шестнадцати лет и этот переход из глухого провинциального городка в шумную и блестящую столицу произвел громадное впечатление на молодого бретонского юношу. В своих «Воспоминаниях» он сам говорит, что этот переход имел такое сильное значение для него, какое мог бы иметь внезапный скачек с Сандвичевых островов во Францию. А для цельности его церковно-религиозного миросозерцания он имел совершенно такое же значение, какое для Лютера первое посещение Рима. Тут пред ним открылся совершенно новый, дотоле неизвестный ему мир. Коллегия св. Николая, это детище иезуитизма, созданное для того, чтобы, служа заведением для совместного образования даровитейших представителей церкви вместе с детьми влиятельной, высшей родовой аристократии, оно могло поддерживать и укреплять связь между церковью и высшим светом, отличалось обычным недостатком иезуитских институтов. Воспитывая молодых людей в крайне одностороннем, схоластическом духе, способном набросить тень на самое христианство, во имя которого однако же и велось это воспитание, она вместе с тем не могла совершенно закрыть своих питомцев от влияний окружающего мира с его опасными искушениями и веяниями. И эти веяния, исходившие от представителей модной, конечно, либеральной и антицерковной литературы, бурным потоком врывались в коллегию и прелестью своей новизны увлекали томившуюся на схоластике молодежь, пробуждая в ней сначала неверие, а затем и прямо вражду ко всему церковному и религиозному, естественно отождествявшейся в ее умах с ненавистной ей схоластикой33. Этому увлечению поддался и молодой Ренан, особенно когда он заметил, что самая религиозность его новых учителей – парижских патеров совсем не походила на столь симпатичную ему бретонскую искренность и простоту, и отличалась явною деланностью, ходульным благочестием, чисто иезуитским бездушием, так что и самое богословие, потеряв свою серьезность и глубину, превратилось в какую-то пеструю смесь положений, рассчитанных на разум и вкус кисейных барышень. При виде всего этого в душе молодого бретонца впервые произошла та трещина, которая имела для него столь роковые последствия.
По окончании трехгодичного курса в этой коллегии, Ренан перешел в знаменитую школу св. Сульпиция, представлявшую собою высшую академию богословских наук во Франции. Там он нашел более строгую богословскую и церковно-религиозную атмосферу и должен был серьезно заняться догматикой и патрологией. Но эти науки уже потеряли для него свою прелесть, и так как они преподавались в несимпатичном ему сухом виде, с устранением всякой живой мысли, как опасной для богословия, то он занялся почти исключительно филологией и философией. В последней его идеалом сделался английский философ Томас Рид, который как пресвитерианец окончательно подорвал в нем веру в состоятельность римского католицизма и у Ренана явилось тайное желание сделаться протестантом, чтобы иметь полную свободу для богословского мышления. Но сделать этот шаг значило порвать со всем прошлым, со всеми дорогими воспоминаниями детства, и Ренан в это время пережил тяжелую внутреннюю борьбу. Он еще не оставлял мысли сделаться священником, надеясь, что тяжелый, ответственный труд пастыря подавит в нем сомнения и восстановит цельность разбитого миросозерцания, и в тоже время страшился этого шага. Между тем ему предложено было место лектора восточных языков в академии св. Сульпиция, и это обстоятельство решило его судьбу. Для расширения и углубления своих филологических знаний он обратился к немецкой литературе, и там-то впервые встретился со «своим дорогим учителем», Давидом Штраусом, который произвел на его расшатанную душу неотразимое впечатление.
Ренан сделался его горячим последователем и восторженным поклонником, и вся его дальнейшая литературная деятельность развивалась уже под его именно демоническим влиянием. Но между учителем и учеником была все-таки громадная разница. Давид Штраус пришел к своей печальной теории с чисто-немецким хладнокровием, и последовательно развивая крайние гегелевские положения, именно мысль о тождестве идеи и действительности, субъекта и объекта, при помощи тяжеловесной аргументации прилагал их к евангельской истории, которую и превратил в ряд мифических вымыслов, созданных-де национально еврейским воображением на основе ветхозаветных фактов и чаяний. Поэтому для его холодного, бездушно-логического мышления было решительно безразлично, что божественная личность Христа, верою в Которого живет и движется весь новейший цивилизованный мир, превратилась в мифический призрак, отвлеченную идею. Совсем иначе относился к этому Ренан. В нем происходила страшная внутренняя борьба, и его ум, уже отравленный ядом сомнения и рационализма, не мог побороть его сердца, которое продолжало жить прежним религиозным миросозерцанием и чувствовало инстинктивный страх, что с разрушением этого миросозерцания рушится все счастье бытия, потеряется самый смысл жизни. И этот внутренний разлад составляет самую яркую особенность всей его личности и наложил неизгладимую печать на всю его жизнь и деятельность. Он явно чувствуется даже в тех его произведениях, в которых сильнее всего выразилась его рационалистическое неверие, как, напр., в его пресловутой «Жизни Иисуса» (вышла в 1863 г.). В силу этого именно внутреннего разлада он не имел достаточно духа последовать за своим учителем настолько, чтобы вслед за ним отвергнуть евангельскую историю, как миф. Нет, не имея никаких достаточных оснований, он изменил своему учителю и его мифическую теорию превратил в полумифическую, в силу которой стал признавать, что Христос был действительная историческая личность, лишь разукрашенная последующими сказаниями, и затем, как бы радуясь спасению этой личности от потопления ее в страшной нирване немецкого мифизма, он по влечению и велению своего сердца обращается к ней во многих местах с таким восторженным благоговением и поклонением, с каким только римско-католический патер может обращаться к какой-нибудь прославленной Мадонне или к «сладчайшему сердцу Иисусову». Очевидно, и здесь в этом наиболее смелом и крайнем произведении своего неверия и рационализма Ренан оказался не более как (по его собственному выражению) «неудавшимся священником», латинским патером, которому по горькой иронии судьбы пришлось служить не Христу, а Велиару.