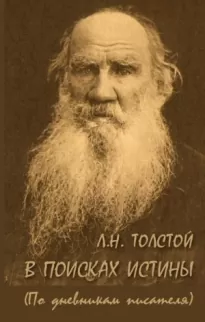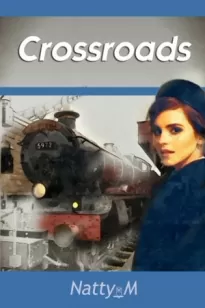Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
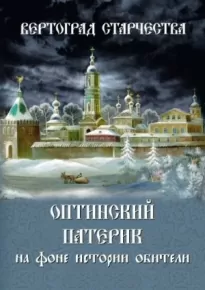
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Глава 11. Монахи-подвижники. Старец Макарий
Если мы оглянемся на несколько лет назад, всего на два с половиной года, то увидим, что 8 ноября 1839-го, в воскресный день, прибыл в Оптину пустынь бывший наставник Липецкого духовного училища Александр Михайлович Гренков, который поступил в число послушников. Это — будущий великий старец преподобный Амвросий. В Оптину его направил старец-затворник Иларион Троекуровский. О старце Амвросии у нас речь впереди, но тут необходимо сказать об этом событии. Пятеро старцев сошлось в Оптиной в это время: оканчивающий свои земные дни отец Леонид, скитоначальник отец Антоний, настоятель обители отец Моисей, духовник братии отец Макарий и вот — только что появившийся послушник Александр, старец будущий.
«Когда старец Иларион, — пишет далее архимандрит Агапит, — благословлял Александра Михайловича поступить в Оптину пустынь, то советовал ему предварительно сходить или съездить туда, чтобы ознакомиться с этою обителью, и потому Александр Михайлович имел в мысли съездить туда дня на два. “Но, приехавши, — так впоследствии рассказывал старец Амвросий, — я ничего не мог в два дня узнать и понять. Пришел к старцу Льву. Вижу, сидит он на кровати, сам тучный, и все шутит и смеется с окружающим его народом. Мне это на первый раз не понравилось. Потом пошел я к отцу игумену Моисею. <…> В другой раз, вижу я, идет к старцу Льву скитской иеросхимонах отец Иоанн в схиме. Его только что постригли в схиму. Лицо у него ангелоподобное. Он очень мне понравился, и я пошел за ним. Пришедши к старцу, схимник поклонился ему в ноги. Я смотрю. Отец Иоанн начал говорить: “Вот, батюшка, я сшил себе новый подрясник, — благословите его носить?”. Старец Лев отвечал: “Разве так делают? Прежде благословляются сшить, а потом носить. Теперь же, когда сшил, так уж и носи, не рубить же его”. Тут я понял, — продолжал старец Амвросий, — в чем дело (то есть что монашество состоит главным образом в отсечении своей воли). С тех пор я полюбил старца Льва»140.
По благословению старца Александр Михайлович отпустил кучера и остался в обители. На житье он временно был помещен в гостинице. Стал ходить к службам Божиим. Ежедневно бывал у старца. Словом, присматривался к монастырской жизни. Старец дал ему и первое послушание — переписывать рукопись, перевод с новогреческого: «Грешных спасение» (о борьбе с страстями). Вскоре у него возникли некоторые неприятности: начальство Липецкого духовного училища разыскало его и потребовало приехать для оформления отставки. Старцы Леонид и Макарий отсоветовали ему ехать за разрешением этого дела, и оно сделалось путем переписки. В первых числах января 1840 года послушник Александр был перемещен из гостиницы в монастырскую келию. В апреле 1840 года последовал указ Калужской духовной консистории об определении Александра Гренкова в число братства. А в ноябре того же года он был переведен в скит. Здесь он около года трудился помощником повара и жил в маленькой келейке на пасеке, где у него не было ни одной лишней вещи. Он исполнял и должность одного из чтецов при больном старце, то есть участвовал в чтении правил и служб, оказывая старцу полное послушание. Отец Леонид иногда говорил о нем другим: «Великий будет человек». А отцу Макарию он сказал о послушнике Александре: «Он будет тебе полезен». Однажды призвал старец отца Макария и, указывая на послушника Александра, сказал: «Вот человек больно ютится к нам, старцам. Я теперь уж очень стал слаб. Так вот я и передаю тебе его из полы в полу, — владей им как знаешь»141.
«Думается, что эти полы великих старцев-подвижников, — писал архимандрит Агапит, — были для близкого к ним ученика подобием милоти Илииной, брошенной на Елисея. <…> Чем далее жил отец Александр в скиту и чем более совершенствовался в жизни духовной, тем тяжелее становился его крест. К его скорбям невольным и произвольным присоединились, как вскоре увидим, жестокие болезни телесные»142.
Когда скончался старец Леонид, все, знавшие его, скорбели, но эта скорбь не была безнадежной: в обители остался ученик покойного, и сам уже старец, — отец Макарий, духовник отца Александра. С осени 1841 года по январь 1846-го отец Александр был у него келейником. 29 ноября 1842 года он был пострижен в мантию и наречен Амвросием.
Так начиналась оптинская жизнь преподобного Амвросия.
За полгода до кончины старца Леонида в Оптиной пустыни умер замечательный подвижник духа — монах Мелхиседек, проведший в обители на покое последние семнадцать лет. Начало своему иночеству положил он в 1782 году в Пешношском монастыре. Через шесть лет перевелся в Тихвинский монастырь, уже иеромонахом, стал ризничим, а в 1791 году перешел на ту же должность в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге. Спустя четыре года он — наместник этой Лавры. Позднее в сане архимандрита отец Мелхиседек настоятельствовал в Ставропигиальном Ростовском Яковлевском, Спасском Арзамасском и Суздальском Спасо-Евфимиевском монастырях. С 1823 года по день своей кончины жил на покое в Оптиной. Он был уроженец Белгорода, из купеческой семьи. Первыми наставниками его в духовной жизни были его благочестивые родители, а потом, когда он уже стал иноком, собеседниками и учителями его были такие подвижники, как архимандрит Игнатий Тихвинский, митрополит Санкт-Петербургский владыка Гавриил, а также святой владыка преосвященный Тихон Задонский. От них научился он правильным путям приобретения смирения, молитвы, вообще многого благопотребного для души, а также выбору полезного и наставительного чтения для укрепления в вере православной.
В Петербурге отец Мелхиседек скоро стал известен как умудренный в духовных вопросах монах. Его духовными детьми стали многие вельможи и члены их семей. Среди них графиня Наталья Александровна Зубова, дочь великого полководца А.В. Суворова. Долгое время окормлял он духовно семью графа Николая Петровича Шереметева, щедро благотворившего монастырям, в том числе и Оптиной пустыни.
Архимандрит Леонид в «Историческом описании Козельской Введенской Оптиной пустыни», рассказав о жизни отца Мелхиседека, привел и его «Духовное завещание», которое, как он писал, «послужит самым красноречивым изображением духовных свойств сего приснопамятного мужа»143.
Завещание это в самом деле имеет большой интерес для нас, так как приготовление к смерти — дело не простое и касается не только людей преклонного возраста или находящихся в страданиях от недугов, посланных от Господа для очищения души. «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь. Я, многогрешный архимандрит схимник Мелхиседек, в течение лет жизни моей всегда поучаяся в сих святого пророка и царя Давида словах (Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти, — Пс.88:49), наконец по благости Божией достиг и до преклонных уже ко гробу лет. В сих летах, несомненно, остался мне один только шаг до гроба, или одна минута до смертного часа. Вся во власти Божией суть. Но да не приидет оный час смерти ко мне внезапно, ибо и вестники уже присланы ко мне от Всемилостивого Бога и Спаса моего, кои суть: тупое зрение очей, тупое слышание ушей; прочие же чувства, дарованные мне от Создателя моего, благодаря Его благость, еще при мне суть, кроме удручающих меня почасту болезней и ослабления сил. Посему рассудил я сделать сим духовным завещанием распределение, когда Господь Бог прекратит дни жизни моей, о предании земли бренного тела моего, земля бо есмь, в землю должен и отъити. В сем моем распределении, во-первых: поклоняюся Тебе, Господу Богу и Творцу моему, славимому и поклоняемому, и благодарю Тебя, Творца моего и Вседержителя, за всеблагий и премудрый Твой Промысл, что сохранил меня во всей жизни моей даже до сего дня невредима в вере и уповании на благость и милосердие Твое. Творче мой и Создателю, приими с миром душу мою в руце Твои, которую я получил от Тебя чисту и непорочну, но яко человек, чем в жизни моей оную осквернил или словом, или делом, или помышлением, или вожделением и всеми моими чувствами, волею или неволею, ослаби, остави, прости и помилуй, яко Благий, по безмерному Твоему милосердию и ради страдания Твоего, смерти и Пречистой крови Твоей, на кресте излиянной. Я всегда с верою лобызал и ныне лобызаю Пречистые язвы Твои и поклоняюсь Пречистым и Животворящим страшным Твоим Тайнам, помилуй мя ради Пречистыя Матери Твоея, ходатайницы нашей, предстательства ради бесплотных сил Небесных, и Ангела Хранителя моего, и всех святых, и прости мне вся согрешения моя, и не вниди, Господи Боже мой, в суд с рабом Твоим. Спаси мя по благости Твоей, веруяй бо в Мя рекл еси, о Христе мой, аще умрет, жив будет. Да вменится вместо дел вера моя в Тебя, Боже мой, и да не лишиши мя Небесного Царствия Твоего; но да удостоиши мя быть вместе со святыми и избранными Твоими, угодившими Тебе. Аминь».
«Вещественная» часть завещания вот вся: «По смерти моей сродникам моим в наследие имения моего отнюдь не вступаться, и не входить ни во что, и не требовать от монастыря ничего, потому что оное большею частию состоит в книгах, которые завещаваю отдать в церковную библиотеку здешней Оптиной пустыни. Прочие же вещи, по прилагаемому при сем реестру, отдаю в полное распоряжение отца моего духовного, игумена Моисея. Денег у меня налицо по сие время не имеется». И затем благодарность братству: «Наконец, отца моего духовного, игумена Моисея, и братию святой обители сея, в коей я с 1823 года в преклонных уже моих летах тихо и мирно успокоиваюсь, за любовь и приязнь их ко мне наиусерднейше благодарю. Да воздаст им Господь по безмерным Своим щедротам и в нынешней жизни и в будущем веке. Прошу их и молю, да зряще мя безгласна и бездыханна, помолятся к Премилосердому Богу о успокоении души моей!»144.
Пять лет спустя отошел ко Господу в Оптиной пустыни другой старец, семидесятитрехлетний иеромонах Геннадий. Он был из московских купцов. Монашеский путь его начался на Валааме. В 1810 году он был переведен в Александро-Невскую Лавру. С 1812 по 1816 год нес обязанности священнослужения на кораблях Балтийского флота. Там произошел один случай, много говорящий о характере отца Геннадия. Однажды, как и обыкновенно в свободное время, офицеры собрались в кают-компании, и завязался некий разговор, в котором «молодежь позволила себе сделать несколько легкомысленных выходок против какого-то религиозного предмета, — пишет отец Леонид. — Услышав это, отец Геннадий встал со своего места и сказал им твердым голосом: “Господа! Отныне нога моя не будет в кают-компании: скорее я перенесу от вас всякое личное оскорбление, нежели решусь слушать кощунство насчет того, что должно быть одинаково свято как для вас, так и для меня!”. Эти слова и убедительный тон, с которым они были произнесены, сильно подействовали на присутствующих: они поспешили успокоить любимого ими старца искренним раскаянием и дали ему честное слово впредь никогда не оскорблять его слух подобным разговором. Так-то благотворны и действительны слова истинного убеждения в устах служителя церкви!»145.
С 1817 по 1822 год отец Геннадий служил в Венгрии в храме-усыпальнице великой княгини Александры Павловны, герцогини Австрийской (сестры Государя Александра I). На конгрессах в Лайбахе и Вероне, где обсуждались европейскими правителями итоги войны с Наполеоном, отец Геннадий, вызванный Государем, служил в его походной церкви и был в это время его духовником. Во время свирепствовавшей в 1831 году в Петербурге холеры отец Геннадий самоотверженно служил в городских лазаретах, исполняя все нужные требы. В Оптину пустынь прибыл 31 декабря 1834 года.