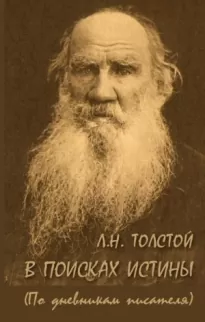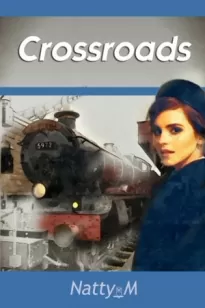Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
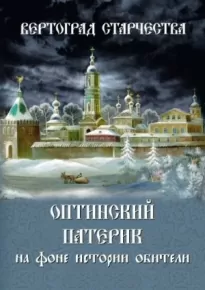
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Глава 22. Старцы Анатолий (Зерцалов) и Иосиф (Литовкин)
После кончины старца Амвросия многие шамординские сестры стали скорбеть, и дьявол начал их бороть искушениями, особенно помыслами и унынием. В это время много их утешал и успокаивал их духовник отец Анатолий (Зерцалов). Много труда он понес ради сестер, хотя не имел больших сил и уже чувствовал приступы нездоровья. Он ехал в Шамордино во всякую погоду и даже во время разлития реки, подвергаясь опасности простудиться или утонуть… Не мог он оставить сестер без духовной беседы, исповеди и Святого Причастия. «Никогда не оставлю Шамордина, — говорил он, — и своих духовных чад. Старец Амвросий дал мне послушание, и я никогда не откажусь от него».
Любящая душа отца Анатолия касалась в шамординской обители всего, до последней мелочи. Ничто не ускользало от его внимания. Для каждой насельницы он находил нужное слово, иногда краткое, которым вносил в души мир, тишину и ревность о спасении. С детьми шамординского приюта он ходил на прогулки, беседуя с ними, позволяя им и порезвиться. «Молодое деревцо нужно окапывать и поливать, — писал он, — иначе оно засохнет. Так и юная душа, отстранившись от родных и не видя утешения ниоткуда, может прийти в уныние». И нелегко ему было: он с молодых лет страдал головными болями, и тут — как поскорбит о чьих-нибудь грехах, поболеет душой за другую душу, так и опять голову ломит… Он, однако, не считался с этим и не показывал виду, что чувствует боль.
Случалось, что кто-нибудь невольно досаждал ему чем-то и порой сильно огорчал. Батюшка, если видел, что это произошло по неопытности того человека, не сердился и прощал, особенно когда при этом было и чистосердечное раскаяние от обидчика. Прощал он и тем, кто сознательно причинял ему неприятность, но с такими уже не было у него обычной его теплоты отношений. Если же и эти смирялись и просили прощения, старец возвращал им свою любовь. Он был милостив. В житии его отмечается его любовь и ко всему живому, что создал Бог, например — к птицам. Зимой он всегда выставлял за окно своей келии кормушку, в которую насыпал семян или крошек хлеба. Уезжая в Шамордино, он набирал скитских цветов — и у себя в вазочке ставил, и сестрам дарил.
Расскажем, однако, о начале жизни старца Анатолия. Село, где он родился, где служил в храме великомучеников Никиты и Георгия Победоносца его отец, диакон Моисей Петрович Копьёв, находилось в Калужской губернии, недалеко от Пафнутьев-Боровского монастыря. Отец диакон и супруга его, Анна Сергеевна, имели крестьянское хозяйство и совершали весь круг сельских годовых работ, как и прочие жители села. Первенец их, сын Алёша (будущий старец Анатолий), родился 6 марта 1824 года. Детство и отрочество его, как вспоминал он, было весьма счастливое, истинно русское и православное: с ранних лет он в храме, в поле с родителями, видит пахоту, сев, уборку хлеба, покос на лугах, труды родителя возле ульев на домашнем пчельнике, на богомолье с родителями в монастырях Калужской епархии — Пафнутьев-Боровском, Лаврентьевском, Оптиной пустыни и часто — в Троице-Сергиевой Лавре… Отрок рано обучен был церковнославянскому чтению, Часослов и Псалтирь были его любимыми книгами. Когда у него появились сестры (их было пятеро), он и их учил всему, что сам узнавал.
Родители по-доброму воспитывали его, а это не исключало и наказаний, которые были необходимы в раннем его возрасте за нехорошие поступки, чтобы уж не повторялись никогда потом… Они впоследствии и действительно не повторялись. Восьми лет он был помещен в Боровское духовное училище. Учась, жил на квартире. Хозяева квартиры полюбили тихого и умного отрока как родного, ухаживали за ним и в дни его болезни. Двенадцати лет он был переведен в духовную семинарию и окончил ее третьим по успеваемости студентом. Ему хотелось уйти в монастырь. Он читал духовные книги, особенно творения святого Ефрема Сирина и святителя Иоанна Златоуста. Был случай, когда он тайно покинул семинарию и ушел, собираясь добраться до Рославльских лесов, где, как он знал, подвизалось множество отшельников. Но при выходе из Калуги его застала гроза, превратившаяся вскоре в настоящую бурю, идти не было возможности, и Алексей возвратился в семинарию. Он подумал, и верно не ошибся, что это Господь заградил ему путь, в который он отправился преждевременно.
В семинарии, как это было в то время в обычае, Алексею Копьёву поменяли фамилию на Зерцалова. Что имело в виду начальство, давая ему такую значимую фамилию? Может быть, оно имело в виду такие мысли, которые высказал святой Ефрем Сирин: «Молитва наша да будет зеркалом пред лицем Твоим. Велелепная красота Твоя, Господи, да отражается на чистой ее поверхности. Да не смотрится в ней, Господи, гнусный диавол, чтобы не отпечатлел на ней гнусности своей. Зеркало носит в себе образ всего, что поставлено напротив. Да не отражаются в молитве нашей все наши помышления, чтобы ясно изображались в ней черты лица Твоего и она, как зеркало, принимала в себя всю лепоту Твою»360.
Окончив семинарию, Алексей Зерцалов не сразу поступил в монастырь. Ему пришлось перенести целый ряд искушений, в которых он полностью положился на Господа Бога: хотя и желали родители, но не получилось у него ни женитьбы, ни рукоположения в священника для служения на одном из сельских приходов. Года три служил он в Калуге в Казенной палате, ожидая свершения своей судьбы от Бога. Он ежедневно посещал раннюю обедню, много молился и читал святоотеческие творения, жил тихо и одиноко. Но вот он заболел чахоткой, которая быстро развивалась. Теряя силы, он дал обет Господу немедленно идти в монастырь, если здоровье к нему вернется. Так и произошло. Он выздоровел и направился в Оптину пустынь, — родители от всей души благословили его на этот шаг. 31 июля 1853 года он был принят в число послушников. Духовным наставником его стал старец Макарий. Старец привлек образованного и высокого молитвенного духа юношу к трудам по изданию святоотеческих творений.
17 ноября 1862 года Алексей Зерцалов был пострижен в мантию с именем Анатолий, 5 июля 1866 года он был рукоположен в сан иеродиакона, а 7 сентября 1870-го — в сан иеромонаха. 13 февраля он был назначен скитоначальником и братским духовником. Многие трудности и искушения преодолел отец Анатолий на своем монашеском пути. Но вот он сблизился с отцом Амвросием, с которым имел тесное духовное общение. Одна монахиня, его духовная дочь из Шамордина, писала, что «однажды батюшка Амвросий сказал: “Отцу Анатолию такая дана молитва и благодать, что единому от тысячи дается, то есть умно-сердечная молитва”. Только батюшка все скрывал, нельзя было понять, что он такой великий человек. Немногие и понимали это. Невозможно описать его доброту и любовь к ближним, — он душу готов был положить за других»361.
Монахиням, которых он окормлял, особенно молодым, он прививал любовь к своему состоянию в ангельском образе. «Монашеская жизнь трудная, — писал он в одном из писем, — это всем известно; а что она самая высокая, самая чистая, самая прекрасная и даже самая легкая, — что говорю легкая: неизъяснимо привлекающая, сладостнейшая, отрадная, светлая, радостию вечно сияющая, — это малым известно. Но истина на стороне малых, а не многих. Потому Господь и сказал возлюбленным ученикам: Не бойся, малое Мое стадо!»362.
Отец Анатолий был духовником шамординских сестер и ездил к ним в обитель и со старцем Амвросием, и один, — один чаще, многие начинания там совершились с его помощью. Он учил сестер церковному уставу, следил за правильностью чтения и пения в храме, установил чтение неусыпаемой Псалтири, сам ее начав читать, также и в трапезной первое чтение житий святых совершил он сам. Он знал всякую нужду насельниц обители, не исключая девочек сиротского дома. И во всем нужном помогал, спрашивая каждую — все ли необходимое у нее есть, не нужно ли чего. Он ободрял, поднимал дух унывающих, радовал хоть маленькими, но дорогими их сердцу подарками или угощениями самого простого свойства. Все чувствовали его любовь и встречали его так же радостно, как и отца Амвросия.
В летнее время отец Амвросий и отец Анатолий приезжали вместе. Старец всех благословлял, все осматривал, давал множество указаний, принимал сестер для исповеди. Иногда оба старца и настоятельница шли с сестрами на зеленый холмик, где немного отдыхали, наслаждаясь прекрасным видом на поля, речку, леса, а главное — беседовали. Отец Амвросий поддерживал духовную беседу. Просил сестер петь что-либо церковное. Краткая прогулка такого рода давала сестрам заряд на многие дни. Дело-то было не в отдыхе, а в духовной радости…
Никто, пожалуй, более отца Анатолия не жалел детей, а также едва вышедших из отроческого возраста молодых инокинь. И особенно после того, как скончался старец Амвросий. Письма отца Анатолия свидетельствуют о его великой во Христе любви к юным созданиям, посвятившим себя на служение Богу в монастыре. Трудно им было, конечно, и много они делали на этом пути ошибок. Старец Анатолий бережно и настойчиво возвращал их на путь истинный.
Вот несколько красноречивых отрывков из писем отца Анатолия к молодым шамординским монахиням. «Не унывай, юная подвижница! — пишет он. — Тебя злой враг хочет застращать на первых порах, а ты его не слушай. И говори: Богу пришла я служить, ради умершего за меня нести скорби и труд; пришла в монастырь потерпеть и помучиться, чтобы вечно со сладчайшим Иисусом царствовать».
«Верьте, — писал он молодым инокиням, — что мы об вас болим; поболите и вы с нами. Ведь мы все не из корысти терпим, не из чести, а чтобы вы были сыты, не угорели, были покойны, святы, чисты, преподобны!.. Вот об чем мы хлопочем, за что терпим, о чем молим Бога. Помолитесь и вы. Не ропщите!» Вот он отвечает на письмо жалующейся ему на то, что ее все забыли: «Матушка ты моя, свет Серафимочка! А я до сей поры все думал, что ты не шуточная, а истинная, заправская, ангелоподобная монахиня. А ты просто девочка, да не простая, а настоящая деревенская, для которой, чтоб она не плакала, непременно нужен пряничный петушок… И родные тебя забыли, и батюшка духовный туда же! А я тебя помню, и очень помню, тебе грех!.. Да когда же мы будем учиться монашеству-то? Или уж не будем? Нет, матушка, надо! Дала клятву — держись: не радуй врага-диавола».
Утешая в некоем большом искушении одну монахиню, отец Анатолий пишет: «Что тебе больно, ей, верю! Но только ты, моя матушка, не чересчур, не доходи до безумия… Попищи, попищи да и помолчи! Пройдет! Ей, пройдет и не вспомянется! А плод этих болезней возрастет, созреет, разукрасится. И как же сладок будет он! Как же благовонен! Как заблестит всеми цветами радуги, всеми красотами драгоценных камней! Каждая капля пота, каждый вздох тысящекратно вознаградится щедрым Подвигоположником нашим Иисусом. Потерпи Господа, мужайся». «Из слов твоих видно, что ты понимаешь духовный смысл монашества, — пишет отец Анатолий в другой раз, — а на дело-то жидка. Ну, что ж делать нам? Смирись, зазри себя в немощах и спеши с прошением о помощи к Богу. Бог прибегающих к Нему никогда не оставит через силу на искушения; особенно юную Свою подвижницу. Ведь Он, Человеколюбец, видит и очень знает, что ради Него, Святого, терпишь от диавола приражения страстей бесчестия, но ждет, чтобы видеть наше произволение, и томит нас. А для чего? Для того, чтобы мы, во-первых, осознали свою немощь и смирились; во-вторых, для того, чтобы, увидавши свое бессилие и приражения врага, обратились к Богу, Помощнику в скорбях, обретших ны зело; а третье и главное, чтобы мы, перешедши огнь и воду, сделались искусны».