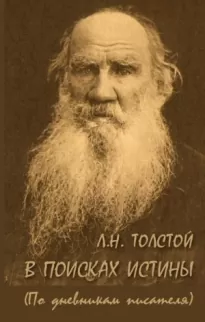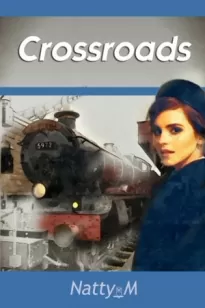Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
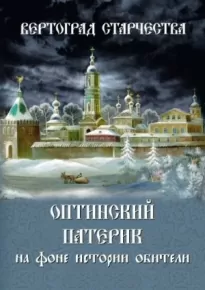
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Глава 28. Духоносное слово старца Варсонофия
Старец Варсонофий нередко проводил беседы со своими духовными чадами, собирая их у себя в молельной комнате. Казалось, что он говорит без всякого плана, но это было смешение тем, случаев, поучений не случайное, — оно преследовало одну цель: духовное просвещение неопытных еще, но верующих душ. Слова старца записывали и отец Николай, и другие чада его. Вот несколько отрывков из бесед и отдельных высказываний старца Варсонофия того времени.
«У батюшки Амвросия спросили: Что такое монашество? “Блаженство”, — отвечал он. И действительно, это такое блаженство, более которого невозможно представить. Но монашество не так легко, как некоторые думают, но и не так трудно и безотрадно, как говорят другие»441.
«Все несут свой крест, и вы несете свой… Несение креста необходимо потребно для спасения всякому христианину, а не только монаху. Да, все несут крест и несли, и вочеловечивыйся Бог нес Крест, и Его Крест был самый тяжелый, как заключавший в себе кресты всех людей. И заметьте: Бог несет Крест, а человек помогает (Симон Киринейский) тем, что берет от Него Крест и сам несет его. Значит, и мы, неся свои кресты, помогаем Господу в несении Креста, то есть готовимся быть Его слугами на небесах в лике бесплотных духов… Какое высокое назначение!»442.
«Ум есть сила самодвижная, но от нас зависит, что дать ему. Подобно тому, как жернов вертится и от человека зависит, что под него подсыпать: пшеницы, ржи, или какой-либо ядовитой травы, или семян. И мука выйдет или хорошая, или ядовитая, сообразно тому, что положено. Так вот и ум, он все переработает, но нужно давать ему только хорошее»443.
«Был человек богат, стал вдруг нищим. Это тяжело, но поправимо. Был здоров, стал больным — и это поправимо, ибо с нищим и с больным есть Христос. А потерять веру — великое несчастье. Оно тем ужасно, что нет у человека никакой опоры»444.
Николай Беляев записывал в своем дневнике краткие ответы батюшки на его вопросы. Так, он покаялся, что проспал лишний час. «Это вас борет бес уныния, — отвечал старец. — Он всех борет. Борол он и преподобного Серафима Саровского, и преподобного Ефрема Сирина, который составил всем известную молитву: “Господи и Владыко живота моего…”. Смотрите, что он поставил на первом месте: “Дух праздности” и, как следствие праздности “уныния… не даждь ми”, говорит он. Это — лютый бес. На вас он нападает сном, а на других уже наяву — унынием, тоской. На кого как может, так и нападает»445.
«Батюшка, как же, собственно, надо укорять себя?» — спрашивает старца Николай. «Как укорять? Очень просто: совесть сразу заговорит, сразу будет обличать, а вам остается только согласиться: что плохо сделали, смиренно обратиться к Богу с молитвой о прощении. <…> Хоть минуту, хоть полминуты, а надо обязательно укорить себя так. Наше дело — укорить себя хотя бы и на короткое время, а остальное предоставим Богу. Хорошо, если мы себя и недолго укоряем. <…> А были святые отцы, у которых вся жизнь была сплошное самоукорение, прямая черта без всяких перерывов. <…> Когда мы себя укоряем, мы исполняемся силы, становимся сильнее духовно»446.
«Вчера батюшка говорил мне следующее: “В Апокалипсисе сказано: Блажен читающий словеса книги сея… [ср.: Откр.1:3]. Раз это написано, значит, это действительно так, ибо слова Писания — слова Духа Святого. Но в чем заключается это блаженство? Тем более, что мы ничего не понимаем из него, — могут возразить на это. Может быть, утешение внутреннее от чтения Божественных слов; можно думать и так: то, что теперь для нас непонятно, будет понятно тогда, когда настанет то время, какое там описано. Вот и посудите: кто теперь читает Апокалипсис? Почти исключительно в монастырях да в Духовных Академиях и семинариях, по необходимости, ибо студентам нужно писать сочинения и сдавать экзамены. А так, в миру, редко кто читает. А отсюда и ясно, что тот, кто будет читать Апокалипсис перед концом мира, будет поистине блажен, ибо будет понимать то, что совершается; а понимая, будет и готовить себя. Читая, он будет видеть в событиях, описанных в Апокалипсисе, те или другие современные ему события”»447.
Вот несколько записей слов отца Варсонофия о Иисусовой молитве (из дневника послушника Николая). «Первым вашим делом, как только просыпаетесь, пусть будет крестное знаменье, а первыми словами — слова молитвы Иисусовой». «Путь молитвы Иисусовой есть путь кратчайший, самый удобный. Но не ропщи, ибо всякий идущий этим путем испытывает скорби. Раз решился идти этим путем и пошел, то не ропщи, если встретятся трудности, скорби — нужно терпеть». «Постоянно имейте при себе Иисусову молитву: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго!” и открывайте помыслы. Все святые отцы говорят, что проходить Иисусову молитву без проверки [себя] никак нельзя. Имя Иисусово разрушает все диавольские приражения, они не могут противиться силе Христовой. Все козни диавольские разлетаются в прах»448.
Начинавший свой монашеский путь в скиту Оптиной пустыни игумен Иннокентий (Павлов) спустя несколько десятилетий вспоминал: «Это был замечательный старец, имевший дар прозорливости, каковую я сам на себе испытал, когда он принимал меня в монастырь и первый раз исповедовал. Я онемел от ужаса, видя перед собой не человека, а Ангела во плоти, который читает мои сокровеннейшие мысли, напоминает факты, которые я забыл, лиц и прочее. Я был одержим неземным страхом. Он меня ободрил и сказал: “Не бойся, это не я, грешный Варсонофий, а Бог мне открыл о тебе. При моей жизни никому не говори о том, что сейчас испытываешь, а после моей смерти можешь говорить”». Далее отец Иннокентий рассказывает, как старец принимал братий: «…не спеша задавая вопросы, выслушивая и давая наставления. При этом он имел совершенно одинаковое отношение как к старшим, так равно и к самым последним…Он знал до тонкости душевное устроение каждого. Бывало, после исповеди или такого откровения помыслов, какая бы скорбь, печаль и уныние ни угнетали душу, все сменялось радостным настроением, и, бывало, летишь от старца как на крыльях от радости и утешения»449.
«Кто надеется на Бога, тот не бывает посрамлен никогда», — говорил старец. Вот еще несколько фрагментов из бесед старца Варсонофия того времени (1908–1909 годов), записанных его духовными чадами: «Видали ли вы искусственные цветы, — спрашивал он, — прекрасной французской работы? Сделаны они так хорошо, что, пожалуй, не уступят по красоте живому растению, но это пока рассматриваем оба цветка невооруженным глазом. Возьмем сильное увеличивающее стекло — и что же увидим тогда? Вместо одного цветка — нагромождение канатов, грубых и некрасивых узлов; вместо другого — пречудное по красоте и изяществу создание. И чем сильнее стекло, тем яснее выступает разница между прекрасным творением рук Божиих и жалким подражанием людским. Чем больше вчитываемся мы в Евангелие, тем более выясняется разница между ним и лучшими произведениями величайших человеческих умов. Как бы ни было прекрасно и глубоко любое знаменитое сочинение, научное или художественное, но всякое из них можно понять до конца: глубоко-то оно глубоко, но в нем есть дно. В Евангелии дна нет. Чем больше всматриваешься в него, тем шире развертывается смысл его, неисчерпаемый ни для какого гениального ума». «И совершенные люди имеют страсти — вполне бесстрастных людей нет; бесстрастие существует в полной мере лишь за гробом. Но у совершенных страсти замерли, так как им не дают ходу. Каждый человек, какую бы высокую жизнь он ни вел, каких бы благодатных даров ни сподобился, должен помнить и никогда не забывать, что и он — человек страстный»450.
Предчувствовал старец Варсонофий грядущие беды, которые Господь попустит пережить России. Вот одно из нескольких таких предчувствий, описанное Николаем Беляевым: «Прочтя вслух про гонения Диоклетиана, батюшка сказал: “Все эти гонения и мучения повторятся, очень может быть… Теперь все это возможно…”. Затем батюшка стал читать про себя, но вскоре отвлек меня от занятия и, указывая на картинку в книге, сказал: “Что это?”. Я прочел: “Развалины Колизея”. — “Да, заметьте, Колизей разрушен, но не уничтожен. Колизей, вы помните, это театр, где язычники любовались на мучения христиан, где лилась рекою кровь христиан-мучеников. Ад тоже разрушен, но не уничтожен, и придет время, когда он даст себя знать. Так и Колизей, быть может, скоро опять загремит, его возобновят, поправят. Попомните это мое слово. Вы доживете до этих времен… <…> Это время не за горами”»451.
Старец Варсонофий имел все те дары, которые имели его предшественники. «Отец Варсонофий был человек высокой богословской начитанности. По внешнему виду он очень напоминал одного из евангелистов. Все его лицо носило на себе отражение великой думы, высокой воли, недюжинного ума, глубокого чувства и безгранично-сильной веры. Но что особенно поражало и приближало к нему, — это его глаза. В них таился какой-то глубокий, проникновенный свет. Стоило только раз попасть под взгляд отца Варсонофия, чтобы почувствовать на себе всю чистоту и боговдохновенность этого человека»452. И, как многих из них, начали посещать его тяжкие недуги. Поначалу не всем это было видно. Только ближайшие к нему люди — келейники, письмоводители — замечали, как он часто прихварывает. С Николаем Беляевым он был откровенен и говорил ему иногда, что чувствует приближение смерти, что смерть как бы и приходила уже к нему, но Господь давал отсрочку. 31 января 1909 года Николай записал слова старца Варсонофия: «Я сегодня ночью думал, что умру. Насилу встал к утрени… Сначала было очень тяжело, но, когда я вошел в церковь — все как рукой сняло, сразу стало легче. К обедне тоже очень трудно было встать, а потом, слава Богу, бодро ходил». 1 марта: «Сегодня я очень плохо почувствовал себя и думаю: надо отдохнуть, лягу. “Брат Никита, — говорю я, — сегодня не будем отпирать женскую половину, в первый раз за три года… А я лягу, до трех часов не будите меня”. Лег, а помысл говорит: а может быть, там пришла какая-нибудь раба Христова со скорбью или другой какой насущной нуждой своей, — как же так? Надо отпереть… Позвал брата Никиту, сказал, чтобы он отпер, а сам встал; вскоре вся слабость прошла. А там действительно пришли [такие], которых надо было принять. И вот как Господь подкрепляет в таких случаях». 30 марта: «Батюшка захворал, даже не принял братию на благословение. <…>…Батюшка сказал мне: “Сегодня ночью я чуть было не умер”. Что за болезнь такая, я не знаю. Говорили, что перемена пищи повлияла на весь организм, в особенности на желудок». 15 декабря: «Батюшка почувствовал такую слабость, что не мог стоять за вечерними молитвами и сразу лег спать»453. Со временем болезненные состояния старца возрастали. Жить ему оставалось около четырех лет…
Но, судя по Летописи, отец Варсонофий при всей своей болезненности был весьма деятелен. Прежде всего, он окормлял братию духовно и часто служил, совершая и требы. Так, 17 февраля 1909 года он соборне совершил Таинство Елеосвящения над тяжко больным старцем Иосифом — вместе с архимандритом Ксенофонтом и отцом Нектарием. Тогда старцу Иосифу стало полегче.