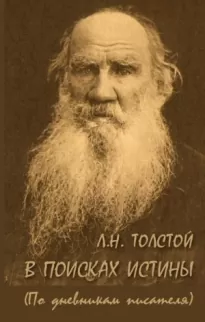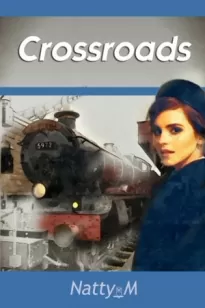Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
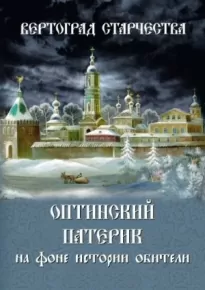
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Глава 12. Сотрудники старца Макария по изданию святоотеческих книг
Ещё до начала книгоиздательской деятельности старца Макария (около 1845 года) два оптинских монаха по благословению начальства выпустили ряд изданий. Один из них — отец Порфирий (Григоров), напечатавший краткие жизнеописания замечательных подвижников — Феодора Санаксарского (Ушакова), пустынника схимонаха Василиска, схимонаха Феодора (ученика преподобного Паисия) и некоторых других, но, главное, собравший и издавший в 1839 году письма монаха Георгия (Стратоника), затворника Задонского, с обстоятельным жизнеописанием (отец Порфирий начинал иноческий путь в Задонском Богородичном монастыре). Книга эта потом переиздавалась много раз, и ее весьма ценили монахи, например святитель Игнатий (Брянчанинов), который писал в апреле 1840 года: «Не была ли у вас в руках книжка писем задонского затворника Георгия? Вот духовный писатель, ушедший далеко от всех духовных писателей нашего времени. <…> Писал он многим, к нему расположенным, особам, письма, которые по смерти его собраны, сколько можно было собрать, и напечатаны. С пера его текут струи благодатные… Книжка сия сделалась одною из моих настольных»154.
Составитель книги хорошо знал затворника Георгия. Он, то есть составитель (монах Порфирий), — бывший артиллерийский офицер, дворянин. Годы его жизни: 1803–1851 (похоронен в Оптиной пустыни). Незадолго до своей кончины он, по благословению старца Макария, показывал Оптину пустынь и скит Н.В. Гоголю. Объяснения его пришлись по душе великому православному писателю.
Одновременно с отцом Порфирием выпустил свои первые книги иеромонах Иоанн (Малиновский; 1763–1849): «Доказательства о древности трехперстного сложения и святительского именословного благословения» (Москва, 1839); «Дополнения к доказательствам о древности трехперстного сложения» (там же, тот же год). В дальнейшем вышли еще четыре его книги. Они все направлены против раскольнических мудрований и благословлены были для печатания Московским митрополитом Филаретом.
«Ныне эти книги имеют только историко-библиографическое значение, но в свое время в таком краю, как Калужский, где раскол свил такое прочное гнездо, эти книги были очень полезны, написанные притом человеком, бывшим некогда в расколе. В историко-бытовом же отношении интересна собственно первая книжка (здесь имеется в виду книга “Дух мудрования некоторых раскольнических толков”, написанная в 1837 году — Сост.), где старцем Иоанном описывается его жизнь в расколе и те несчастия, какие ему привелось перенести от раскольников, когда он задумал перейти в общение с Православною Церковью»155.
Иеросхимонах Иоанн (Малиновский) скончался на восемьдесят седьмом году жизни 4 сентября 1849 года. Он родился 2 мая 1763 года в деревне под Нижним Новгородом и был крещен православным священником. Пяти лет остался круглым сиротой. Рос и воспитывался он в чужой старообрядческой семье и семнадцати лет удалился в раскольнический скит в Керженских лесах. От раскольников же был и пострижен в монашество с именем Исаакий. Однако Господь не давал его душе успокоиться: он почти с самых первых шагов на старообрядческой неверной стезе начал чувствовать «сердечное томление и скуку» и раздражение от шумных споров (порой с дракой) сектантов. В 1790 году он начал ходить по православным обителям России, беседуя с монахами и все более убеждаясь в правоте Православия. Вернувшись, он попытался бывших своих собратий-старообрядцев убедить в неправоте их воззрений, но беседа окончилась тем, что отец Исаакий был избит едва ли не до полусмерти. В 1808 году он поступил в единоверческий Корсунский монастырь Екатеринославской епархии, где в 1810 году рукоположен был в иеродиакона и вскоре в иеромонаха епископом Платоном.
В 1820 году отец Иоанн переместился в Балаклавский православный монастырь и летом нес обязанности священнослужителя на кораблях Черноморского флота. В 1825 году перешел в Александро-Свирский Троицкий монастырь; в 1828 году митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим направил его с несколькими иеромонахами в Старорусскую духовную миссию для обращения из раскола военных поселян. Через год он поселился в киновии Александро-Невской Лавры и с этой поры, чувствуя уже упадок сил по старости, начал проситься на покой, в уединение, и именно в Козельскую Введенскую Оптину пустынь. Он прибыл в Иоанно-Предтеченский скит в августе 1834 года. 1 октября 1836-го в скитском храме пострижен был игуменом Моисеем в схиму с наречением имени Иоанн. При пострижении отдан под руководство старца Леонида.
Калужский владыка, преосвященный Николай, нередко присылал к отцу Иоанну для увещания упорствующих в своих заблуждениях старообрядцев. Для этой же цели посылаем был отец Иоанн в город Сухиничи. Будучи крайне нестяжательным, он даже книг своих не имел ни одной, а пользовался скитской библиотекой. Характер его был весьма мирным, речь тихой. Братия с любовью относилась к нему, убеленному благолепными сединами старцу. В 1848 году он начал чувствовать некую болезнь в груди (дыхание его стеснялось). Его часто видели сидящим у могилок… На вопрос, что это он так часто сидит здесь, он отвечал: «Да, эдакая право-да, прошу отцов, чтобы приняли меня в сообщество свое». Молитвенного правила и в предсмертной болезни не оставлял. 4 сентября 1849 года он, лежа, разговаривал с услужавшими ему в болезни братиями, рассказывая о том, как умирали некоторые знаемые им благочестивые архиереи и монахи-подвижники… Среди беседы он вдруг умолк и душа его отлетела ко Господу.
Жизнеописатель его, архимандрит Леонид, заканчивает его житие следующими словами: «Мир тебе, незабвенный старец! Неленостно ты потрудился в изыскании спасительной истины и, обретши ее, принял и терпеливо нес благое и легкое иго Христово, оставив нам пример добродетелей: смиренномудрия и непритворной простоты с блаженною кротостию и незлобием, и уснул с покойною совестию, в надежде исполнения непреложного обетования, данного Сладчайшим Искупителем нашим Иисусом Христом: Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф.11:28)»156. В «Московских Ведомостях» за 8 ноября 1849 года в № 134 был помещен обширный некролог, составленный оптинцами — Петром Григоровым, рясофорным монахом, и другими скитянами по благословению митрополита Филарета Московского. Писали и исправляли некролог также старец Макарий и настоятель обители отец Моисей. Некролог полностью вписан в Летопись скита за 1849 год.
Старец Макарий, считая полезными книги отца Иоанна, думал, однако, об изданиях другого рода: до сей поры оставались в рукописном виде многие святоотеческие писания. Больших трудов стоило монаху их добыть, хотя что-нибудь из них. Купить было также нелегко — рукописные книги стоили весьма дорого. Кто имел возможность, тот переписывал сам и авву Дорофея, и Иоанна Лествичника, и других святых отцов, учителей монахов.
Еще живя в Площанской пустыни, отец Макарий у своего наставника схимонаха Афанасия брал и переписывал по его благословению святоотеческие труды, переведенные с греческого языка на церковнославянский преподобным Паисием. Так собралась со временем у него рукописная библиотека, где были копии с исправленных преподобным Паисием старинных славянских переводов писаний святых отцов — Макария Великого, Иоанна Лествичника, Варсануфия Великого и Иоанна Пророка, а также переведенных отцом Паисием с греческого книг преподобных Максима Исповедника, Феодора Студита, Григория Паламы и других наставников монашеской жизни. Рукописные книги были и у настоятеля Оптиной пустыни отца Моисея, и у брата его отца Антония. Остались, вероятно, таковые и от покойного старца Леонида. Находились аскетические рукописи и у мирян, например у Н.П. Киреевской, духовной дочери отца Макария. Казалось, только бы иметь средства… Но не так просто было это великое дело начать.
Духовным регламентом, изданным при Императоре Петре I, печатать книги духовного содержания поручалось Синоду. К концу XVIII века книги православного направления стали редки. В 1817 году образовано было Министерство духовных дел во главе с князем А.Н. Голицыным (до этого бывшим обер-прокурором Синода), в подчинение которого вошел Святейший Синод Православной Церкви — наряду и в одинаковых правах с такими учреждениями, как Евангелическая консистория, Католическая коллегия, Духовное управление армян и прочие такие же. Все это «объединилось» в Министерстве духовных дел. Голицын не сочувствовал Православию, более того — «все, связанное с инославием, находило полную поддержку у Голицына, который прикрывал даже своим авторитетом хлыстовские радения, устраивавшиеся Татариновой. Не препятствовал он и распространению скопческой литературы Кондратия Селиванова. Главные посты в Библейском обществе заняли масоны А.Ф. Лабзин (директор) и В.М. Попов (секретарь). Голицын запрещал духовной цензуре пропускать печатание книг, порицающих вредные сочинения»157. Россию наполнили многочисленные искатели счастья из европейских стран — католики, протестанты, масоны. Все более и более издавалось книг мистического толка, сочиненных западными писателями и проповедниками. Это был очень сильный натиск иноверия на русскую жизнь. Библиотеки дворян были набиты инославными и вообще иноязычными книгами. Образованное общество в массе своей отвернулось от родного Православия, прельстившись «свободами» западного образа жизни. Бог, однако, поругаем не бывает. Он воздвиг немногочисленных, но сильных борцов с этим злом. Один лишь архимандрит Фотий (Спасский), аскет, подлинный раб Божий, нанес с Божьей помощью такие по нему удары, что в результате Император Александр I закрыл Министерство духовных дел, Библейское общество158, масонские ложи и выдворил из России иезуитов, открывших здесь свои пансионы и колледжи. Это произошло в 1822–1924 годах.
Если вспомнить, что через год произошло восстание декабристов, то ясно станет, где его корни. Отметим здесь, что после подавления этого бунта молодой Император Николай Павлович сам еженощно допрашивал арестованных, обходился с ними внимательно, хотя и строго, и большинство из них расположил к себе. Письма и записки сосланных в Сибирь и воевавших на Кавказе простыми солдатами декабристов свидетельствуют о том, что многие из них покаялись, вернулись в лоно Православной Церкви, стали патриотами Святой Руси (об этом историки всегда умалчивали, как и о предсмертном покаянии Рылеева и Муравьёва-Апостола, о котором свидетельствовал их духовник протоиерей Пётр Мысловский, о чем говорили и их последние письма, полные веры в Промысл Божий).
Вот только к 1840-м годам пришло время для великого дела — издания святоотеческих православных книг. Благому начинанию оптинцев помог благоволивший к старцам Московский митрополит Филарет, член Святейшего Синода: он взял на себя ответственность за эти издания и благословил издателей. Нашлись и благочестивые помощники из мирян: в Петербурге А.С. Норов, министр народного просвещения, ученый путешественник по православному Востоку (пять томов составили его замечательные записки); в Москве патриоты и славянофилы М.П. Погодин (историк, писатель, профессор Московского университета), С.П. Шевырёв (поэт, критик, тоже профессор), М.А. Максимович (писатель и профессор), духовный писатель А.Н. Муравьёв, С.А. Бурачок (издатель журнала «Маяк»), Т.И. Филиппов (литератор), В.И. Аскоченский (писатель, издатель журнала «Домашняя беседа»). Но наиболее существенную помощь оказывали старцу Макарию его духовные чада супруги Иван Васильевич и Наталья Петровна Киреевские. В скиту сотрудниками старца Макария по изданию книг стали послушник Леонид (Кавелин, будущий церковный писатель и наместник Троице-Сергиевой Лавры в сане архимандрита), иеромонах Амвросий — будущий преподобный старец, монах Ювеналий (Половцев, впоследствии архиепископ Литовский и Виленский), послушник Павел (впоследствии иеромонах Платон). Не остался в стороне от этого дела и настоятель Оптиной пустыни отец Моисей.