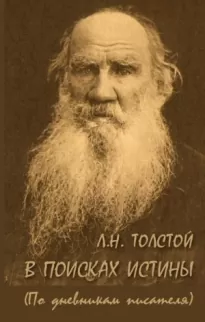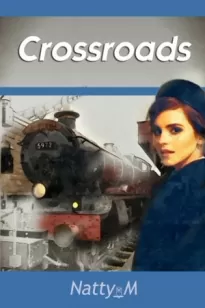Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
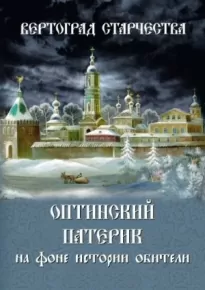
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Глава 23. Старец Варсонофий (Плиханков)
Почти тридцать два года управлял обителью архимандрит Исаакий (Антимонов), не желавший никогда начальствовать, но весьма добросовестно и с большой мудростью исполнявший это послушание. Однако помимо начальнических дел, он стремился ничем не выделяться из среды простых монахов — ни в одежде, ни в пище, ни в обращении. За то и был любим братией, нередко звавшей его за глаза «дедушкой», хотя он ни к кому не выказывал особенной любви, был со всеми ровен. И милость, и снисходительность, и строгость его были ко всем одинаковы. Он был крепкого здоровья, но имел заботы весьма хлопотливые. После кончины старца Амвросия, без совета с которым он ничего не предпринимал, он стал прихварывать. Да и возраст начал сказываться: в 1894 году ему было восемьдесят пять лет.
Избегая самочинности, отец Исаакий в последние годы стал обращаться к старцу Иосифу, который был его постриженником. Шестнадцать лет, проведенных некогда отцом Исаакием в скиту рядом со старцем Амвросием, не прошли даром, — он приобрел и хранил с Божией помощью великое смирение. Архимандрит Агапит в своей книге о схиархимандрите Исаакии привел его ответ на вопрос инока о том, как возможно победить гордость. «Как победить? — ответил подвижник. — Для этого необходимы борьба и самопонуждение к смирению. Это не вдруг приходит, а со временем. Это то же, что пролить кровь. Проси Бога. Постепенно будешь осваиваться со смирением, а после оно и в навык обратится»375.
Уходили из жизни духовные соратники отца Исаакия: умер отец Флавиан… В начале 1894 года скончался отец Анатолий. А в июне этого года началась предсмертная болезнь самого отца Исаакия, он начал угасать, слабеть, готовиться к исходу. «Во все время болезни, — писал отец Агапит, — он неопустительно слушал чтение келейного правила, а за две недели до блаженной своей кончины ежедневно причащался Святых Христовых Таин. К медицинским средствам он не прибегал, хотя в начале болезни по настоянию братии и пригласил однажды врача из Козельска. Утешение его составляли молитва и святые иконы, которые по временам приносились к нему из Козельска и из своей обители. Он был покоен духом, впрочем, готовился к исходу из сей жизни не без страха, который был постоянным спутником его жизни. “Страшно умирать. Как явлюсь пред лицом Божиим и на Страшный суд Его; а сего не минуешь”, — говаривал он всегда»376.
В последние дни ему стало душно в келии, и по его просьбе ему устроили ложе под деревом во дворике настоятельского корпуса. Здесь братия подходила к нему для прощания. На вопрос: «Как жить после вас?» — он ответил: «Живите по совести и просите помощи у Царицы Небесной, и все будет хорошо». 20 августа ему стало совсем плохо. Его перенесли в настоятельские покои. Еще два дня, борясь с нарастающей слабостью, творил он по четкам Иисусову молитву. 22 августа он мирно почил. К заупокойному всенощному бдению 23 августа в Оптину пустынь прибыл Калужский преосвященный Александр. Храм был полон народа.
В девятый день по кончине архимандрита Исаакия (29 августа) прибывший в Оптину по этому случаю из Духовной Академии Троице-Сергиевой Лавры иеромонах Трифон (Туркестанов, бывший с 1884 по 1888 год послушником в Оптиной, впоследствии епископ и митрополит) сказал слово, в котором выразил очень теплое отношение к своему бывшему наставнику. «Не предвосхищать суд Божий желаем мы, восхваляя праведника, — сказал он, — но имеем в виду ту пользу и назидание, какие могут получить живые из рассказа об истинно христианской жизни. Как путнику, бредущему по жаркой песчаной пустыне, нужен по временам глоток воды для освежения его сил, так необходимо и нам, странникам и пришельцам на земле, для ободрения и освежения душевных сил воспоминание о мужах, подобострастных нам и шедших одним с нами путем и однако силою веры и неустанными подвигами дошедших благополучно до вожделенного града Царя Небесного. <…> Да, он любил Бога, ибо всю жизнь нелицемерно служил Ему! Да, он любил службу Божию, ибо за день до кончины коснеющим уже языком благословлял Господа, призывая чтеца к начатию утреннего богослужения… Много нужно духовной мудрости, много нужно твердости, чтобы управлять монастырем в теперешнее время! <…> Хотя и со слезами, но, покорясь воле Божией, подъял труд сей в Бозе почивший отец Исаакий. <…> И теперь, более чем через тридцать лет, совершив свое земное течение и оглянувшись назад, ты поистине мог бы сказать, возлюбленный авва, что не расточил напрасно врученных тебе талантов, а приумножил…Учил ты великим началам, на которых зиждется духовная жизнь обители Оптинской: глубокому, всецелому повиновению старцу и твердому, неустанному подвижничеству. И вот настоятель одной из славных обителей русских, всеми глубокоуважаемый, как дитя, покорно склоняется пред волей старца, с самого поступления своего сюда в обитель послушником и до последнего вздоха ничего не делает без его совета и благословения. <…> Смиряясь пред старцем, покойный отец архимандрит и в личной своей жизни — в пище, и в одежде, и в убранстве келии — наблюдал полную простоту древних подвижников. В церкви к утрени и ко всем службам он всегда являлся первым и исходил последним, и это не только тогда, когда он был крепок и здоров, а и болен и слаб, когда ноги его покрылись ранами, когда от слабости он уже и стоять почти не мог — никакого послабления плоти! <…> И теперь, уповаем, возлетел он в светлые небесные обители, оставив нам в наследие те начала, какими достигается чистота сердца и зрение Бога — отсечение своей воли и умерщвление страстей подвигами. И пока они будут тверды среди иноков, будет тверда и Оптина пустынь»377.
Слушал эту теплую речь и седовласый рясофорный инок Павел, духовное чадо покойного старца-скитоначальника Анатолия, а теперь — отца Иосифа. Перед кончиной батюшка Анатолий сказал одной шамординской монахине, ухаживавшей за ним вместе с несколькими другими сестрами: «Знаешь, мать, какой человек у нас в скиту? Вот с ним бы я мог быть вполне единомысленным». Он имел в виду инока Павла, который, придя в скит сорока шести лет в 1891 году, не стал терять времени, а сразу вступил на подвижническую стезю. Редко кому удается не поскользнуться на этом пути.
Отец Павел имел хорошее образование, полученное в военной гимназии и потом в училище, а кроме того, и путем постоянного самообразования. Служа в Оренбурге и Казани, повышаясь в чинах (в Оптину он явился в чине полковника, будучи уже представленным к генеральскому чину), отец Павел жил одиноко и замкнуто, посещая храмы и монастыри, имея общение с монахами, читая не только художественные произведения (он любил русскую классику и сам писал и помещал в журналах стихи), но и книги святых православных отцов.
На полках его домашней библиотеки были творения святителя Игнатия, аввы Дорофея, святого Иоанна Лествичника, епископа Феофана, затворника Вышенского. Книги святителя Феофана («Путь ко спасению», «Что есть духовная жизнь», а особенно составленное им пятитомное «Добротолюбие») отец Павел перечитывал не раз и как-то особенно близко принимал к сердцу его слово… И вдруг, уже тогда, когда находился на смертном одре отец Анатолий, пришла весть о кончине владыки Феофана. Оба они, и отец Анатолий, больной, сам умирающий, и чадо его духовное, сильно поскорбели об этой утрате, весьма чувствительной для иночествующих. А отец Павел написал стихотворение, можно сказать, небольшую поэму в четырех частях, посвященную почившему. Это стихотворение было напечатано в журнале «Душеполезное чтение» (№ 11 за 1894 год) за подписью «Странник» — такой псевдоним избрал себе отец Варсонофий. 25 января скончался отец Анатолий. Из-под пера отца Павла вылились новые скорбные стихотворные строки:
Он как ангел небесный служил,
Полный веры, пред Господом Сил,
Как светильник сияя средь нас!..
А потом новая утрата: смерть архимандрита Исаакия… На глазах отца Павла умирали старые скитяне: 25 апреля 1892 года — схимонах Кирилл, келейник старца Амвросия; 18 августа 1893-го — монах Николай, турок, который по благословению отца Анатолия рассказал отцу Павлу, и тот записал, удивительное видение, бывшее этому многострадальному подвижнику духа; 22 января 1894 года — схимонах Тимон, бывший некогда келейником иеромонаха Климента (Зедергольма); 9 августа 1895-го — иеросхимонах Савватий, бывший главным пономарем в скитском храме в течение двадцати пяти лет. Потом ушел из жизни 21 декабря 1897 года и отец Михаил, иеросхимонах, один из многолетних и верных келейников старца Амвросия; 24 июля 1898 года умер монах Арсений: когда тело его лежало во гробе во время литургии перед Царскими вратами, как раз сюда принесена была чудотворная Калужская икона Богоматери и простояла здесь всю службу (это был единственный случай в скиту). 2 сентября 1899 года почил схимонах Геннадий, положивший начало иноческой жизни вместе с отцом Амвросием: оба были послушниками и вместе трудились на кухне при скитской трапезной…
Каждый из них — целый мир; область, где царствовал Господь… Иные были и бесхитростные простецы, а их искреннее слово и особенно жизнь имели немалую поучительность. Это были Божии люди. Таковым был и схимонах Борис, скитской вратарь, из полуграмотных крестьян, с которым тогда духовно сблизился инок Павел, впоследствии и рассказавший о нем. «Отец Борис был необычайно смиренен и считал себя за последнего, — писал он. — Скончался он на Пасху 1898 года. Пришел я к нему, когда он лежал в больнице. По-видимому, Господь открыл ему время его кончины. “Молись за меня и братию попроси помолиться в воскресенье и понедельник”. — “Да вся братия молится за вас, отец Борис, и я, конечно, обязан за вас всегда молиться, а не только в воскресенье и понедельник…” Отец Борис, как бы не слыша меня, повторил: “Пусть помолятся обо мне в воскресенье и понедельник”. Я не понял его. Утром во вторник я пришел навестить больного и узнал, что он уже скончался. Так и оправдались слова старца: действительно, только в понедельник и воскресенье можно было молиться за него как за живого, а во вторник уже за усопшего. В час кончины отца Бориса одной шамординской схимнице было видение. Идя к утрени, она увидела зарево на востоке, как раз по направлению Оптиной пустыни. Вглядевшись в зарево, она увидела душу, быстро возносящуюся к небесам… <…> Вскоре приехал вестовой из Оптиной к матушке игумении Евфросинии с известием, что схимонах Борис скончался в 2 часа утра. Видение было как раз в это время»378. Отцу Борису было более восьмидесяти лет. Вот что написали скитяне на его памятнике: «В суровых подвигах, непрестанной молитве, добрый, светлый и веселый в глубокой старости мирно почил».
Будущий старец отец Варсонофий многому учился у простых монахов. Можно привести один или два красноречивых случая. «Однажды, — вспоминал отец Варсонофий, — когда я был еще послушником, вышел я из своей безмолвной келии теплою июльскою ночью. Луны не было, но бесчисленное множество звезд сияло на темном небе. <…> Подхожу к большому пруду и вдруг вижу одного нашего схимника, отца Геннадия, проведшего в скиту уже 62 года. Последние годы он совсем не переступал за скитские ворота и позабыл про мир. Стоит неподвижно и смотрит на воду. Я тихо окликнул его, чтобы не испугать своим внезапным появлением. Подошел к нему: “Что делаешь ты тут, отче?” — “А вот смотрю на воду”, — отвечает он. “Что же ты там видишь?” — “А ты ничего в ней не видишь?” — в свою очередь спросил отец Геннадий. “Ничего”. — “А я, — сказал схимник, — созерцаю премудрость Божию. Я ведь полуграмотный, только и научился Псалтирь читать, а Господь возвещает мне, убогому, Свою волю. И дивлюсь я, что часто ученые люди не знают самого простого относительно веры. Видишь ли, все это звездное небо отражается в воде, — так и Господь вселяется в чистое сердце. Следовательно, какое блаженство должны ощущать души, стяжавшие чистоту… Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. Вот я, сколько ни стараюсь, не могу стяжать душевной чистоты, хотя и знаю, как это важно. А понимаешь ли ты, что такое чистота сердца?” — спросил отец Геннадий. “По опыту не знаю, так как не имею этого, — ответил я, — но думаю, что чистота заключается в полном беспристрастии: кто не имеет ни зависти, ни гнева, ни какой другой страсти, у того и есть чистое сердце”. — “Нет, этого мало, — возразил схимник. — Недостаточно только сполоснуть сосуд, надо наполнить его еще водой, — по искоренении страстей надо заменить их противоположными добродетелями, без этого не очистится сердце”. — “А вы надеетесь войти в Царство Небесное, отец Геннадий?” — “Надеюсь, что там буду”, — сказал он уверенно. “Так как же вы сами говорите, что не имеете чистоты душевной, а только чистии сердцем… Бога узрят?” — “А милосердие Божие? Оно и восполнит все, чего не достает. Оно беспредельно, и я имею твердую надежду, что и меня Господь не отринет”»379.