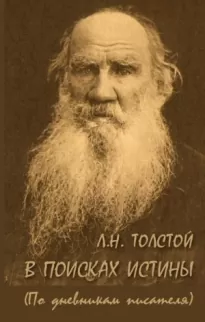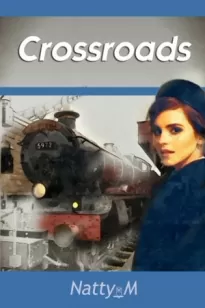Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
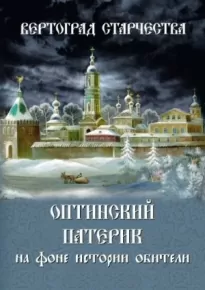
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Глава 19. Духовные дарования старца Амвросия
«… Первая встреча с отцом Амвросием поражала посетителей, — пишет отец Ераст, письмоводитель старца. — Ожидая увидеть старца дряхлого, серьезного, строгого, молчаливого, глаза посетителя вдруг встречали радостное сухенькое старческое личико с добрыми проницательными глазами; [старец] с улыбкою и ласкою встреча[л] вас смиренно в полулежащей позе, в камилавке, черном подряснике, и уже благословляя[л] вас дрожащей сухенькой ручкою»332.
«Об отце Амвросии, — пишет одна паломница, — я ничего прежде не знала… <…> Я увидела его подле скита в старой-старенькой накидке, с палочкой в руках. Он шел легко и имел вид совсем не такой, как другие монахи, он шел, казалось мне, не касаясь земли. Я была сзади него; но он вдруг обратился в нашу сторону и благословил меня. Впечатление моего сердца было такое, что это, должно быть, дух Ангела во плоти»333.
«Говоря о силе слова старца Амвросия, — пишет отец Агапит, — не неуместно сказать здесь несколько слов и вообще о его обращении с многочисленными и разнообразными посетителями, а кстати, и о его внешнем виде. Наружное обращение его с ними вполне соответствовало его внутреннему благодатному, любвеобильному настроению души. Он всем желал добра и пользы душевной, но подавал каждому то и столько, что и сколько каждый мог вместить по своему душевному устроению. Люди, которые не нуждались в его духовных советах, а должны были видеть его по какому-либо делу, все отзывались о нем: “Очень умный человек!”. Старец мог говорить о всяком вопросе, поддерживал беседу столько времени, сколько требовало приличие, и расставался с такими посетителями. <…> Зато с преданными ему людьми батюшка был совершенно другой. Он всегда оставался добрым и ласковым, но в такие отношения влагал самую искреннюю задушевность. <…>
По виду батюшка отец Амвросий был благообразный старец, немного выше среднего роста и несколько от старости сутуловат. Будучи смолоду очень красивым, как передавали о сем знавшие его в то время лично, он и в старости не потерял приятности в своем лице, несмотря на его бледность и худобу. На голове спереди имел небольшую лысину, которая, впрочем, нисколько его не безобразила и даже как будто шла к его лицу, а назади несколько прядей коротких темно-русых с проседью волос; на лбу две-три морщины… глаза светло-карие, живые, проницательные, видящие душу насквозь… борода довольно длинная, редкая, седая, в конце раздвоенная.
Батюшку нельзя себе представить без участливой улыбки, от которой вдруг становилось как-то весело и тепло, без заботливого взора, который говорил, что вот-вот он сейчас для вас придумает и скажет что-нибудь очень полезное…
От живости батюшки выражение его лица постоянно менялось. То он с лаской глядел на вас, то смеялся с вами одушевленным молодым смехом, то радостно сочувствовал, если вы были довольны, то тихо склонял голову, если вы рассказывали что-нибудь печальное, то на минуту погружался в размышление, когда вы хотели, чтоб он сказал вам, как поступить в каком-либо деле, то решительно принимался качать головой, когда отсоветывал какую-нибудь вещь, то разумно и подробно, глядя на вас, все ли вы понимаете, начинал объяснять, как надо устроить ваше дело.
Иногда в лице батюшки являлось беспокойное выражение. Ему хотелось вам что-то сказать, но он не желал обнаружить, что знает это, и старался, чтоб вы сами спросили у него. <…> Вы чувствуете, что эти глаза видят все, что в вас есть дурного и хорошего, и вас радует, что это так и что в вас не может быть для него тайны.
Иногда же это доброе, ласковое, приятное лицо старца Амвросия как-то особенно преображалось, озаряясь благодатным светом. И бывало так большею частию или во время, или после молитвы, преимущественно в утренние часы. Однажды старец с вечера назначил прийти к себе двум супругам, имевшим до него важное дело, в тот час утра, когда он не начинал еще приема. Они вошли к нему в келию. Старец сидел на постели в белом монашеском балахоне и в шапочке. В руках у него были четки. Лицо его преобразилось. Оно особенно как-то просветлело, и все в келии его приняло вид какой-то торжественности. Пришедшие почувствовали трепет, и вместе с тем их охватило невыразимое счастье. Они не могли промолвить слова и долго стояли в забытьи, созерцая лик старца. Вокруг было тихо, и батюшка молчал»334.
«Нам уже не жить так, как они жили», — замечал отец Амвросий, если слышал что-либо о подвигах древних святых отцов. Однако сам он, как утверждали многие из близко знавших его, многие добродетели имел и был исполнителем заповедей Господних. Смирение, например, заставляло его скрывать свои подвиги, насколько это было возможно. Люди недалекие обманывались и, случалось, считали отца Амвросия ничем особенно не выдающимся человеком. На похвалу он отвечал шуткой: «Славны бубны за горами, а подойдешь — лукошко». Сравнили его как-то с великим святым, а он: «Да у него-то труды, а у меня все толки». Или: «Живу как на базаре». «Я ничего не делаю, а только лежу. Меня все хвалят понапрасну. Горе тому человеку, которого хвалят больше его дел»… Или замечал: «Много есть людей гораздо лучше меня».
Отмечая сорокалетие жизни своей в монастыре, он сказал полушутя: «Прожил я здесь сорок лет и не выжил сорок реп, истинно: чужие крыши покрывал, а своя раскрыта стоит». В одном из писем он писал: «Не знаю, есть ли кто неразумнее меня. Будучи немощен крайне душою и телом, берусь за дело сильных и здоровых душевно и телесно». Он просил людей молиться о себе, «глаголющем и не творящем». Недуги свои он принимал как наказание за грехи.
Но вот многие видят, как он проливает слезы — или умиления во время служб, или сострадания, слыша о бедах и несчастьях людей, особенно своих духовных чад. Однако ровного и покойного состояния его души ничто не могло нарушить.
Причащался он Святых и Животворящих Таин Христовых часто, раз в две-три недели, а позднее и еженедельно. Оптинский иеромонах отец Платон, бывший одно время духовником отца Амвросия, вспоминал: «Как назидательна была исповедь старца! Какое смирение и сокрушение сердечное выказывал он о грехах своих! Да и о каких грехах? О таких, которые мы и за грехи не считаем. <…> Он стоял в это время на коленах пред святыми иконами как осужденник пред страшным и неумолимым Судьею»335.
Старец имел великую любовь к ближним. Она выражалась и в молитве его за людей, и в советах им, и в помощи им всем, чем только было возможно. Когда ему присылали деньги, он делил их на три части: на скит, на помин благотворителей и на свечи и масло для келейных служб; на помощь бедным. Ежедневно приходившим к нему беднякам он передавал милостыню через келейников. Были случаи, когда и сам он подавал. Как-то раз он пришел из хибарки в свою келию и сказал сидевшему здесь письмоводителю: «Вот там пришла вдова с сиротами мал мала меньше. Их пятеро, а есть нечего. Сама горько плачет и просит о помощи. А самый маленький ничего не говорит, а только смотрит мне в глаза, подняв ручки грабельками. О-о! да как же не дать-то ему?». Старец полез за деньгами в ящик стола, — лицо подергивается, на глазах слезы…
К праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи отец Амвросий рассылал ежегодно по нескольку десятков писем с вложением денег — по три, пять и более рублей. К концу жизни старца этих писем рассылалось уже до двухсот.
Но вот дела и покрупнее. При помощи благотворителей отец Амвросий основывал и благоустраивал женские обители, имея заботу о бедных, одиноких и больных женщинах. Так возникли общины — Предтеченская в Кромах (Орловской губернии), Козельщанская (Полтавская), Пятницкая (Воронежская), Ахтырская Гусёвская (Саратовская) и Казанская Горская в Шамордине (Калужская губерния, в 12 верстах от Оптиной). Там немало было инокинь, которые жили только на те средства, которые присылал им старец Амвросий, — других не имели.
В связи с таким важным оптинским делом нельзя не вспомнить здесь устроителя Белокопытовской женской общины оптинского иеросхимонаха Гавриила, который рукополагался во иеромонаха в Калуге вместе с будущим старцем Амвросием.
Иеросхимонах Гавриил родился в 1817 или 1818 году, в миру звали его Гавриил Лукич Спасский. Происходил он из духовного звания. Окончил Калужскую духовную семинарию и 25 февраля 1842 года поступил в Оптину пустынь. 19 февраля 1842 года пострижен был в рясофор, 1 октября 1844-го — в мантию, 9 декабря 1845 года рукоположен в иеродиакона, а 17 апреля 1848-го — в иеромонаха. С 8 октября 1849 года по 3 апреля 1851-го он был казначеем в Николаевском Малоярославецком монастыре и вернулся в Оптину пустынь. 2 марта 1855 года по болезни уволен был за штат.
В 1865 году отец Гавриил начал заниматься устройством женской общины в имении вдовы подполковника Александры Евгеньевны Белокопытовой в селе Петропавловском Мосальского уезда Калужской губернии (впоследствии — Казанский Белокопытовский монастырь). Духовником ее был оптинский старец Макарий, а по кончине его — иеромонах Гавриил. Для устройства общины Александра Евгеньевна пожертвовала все свое имение — усадьбу, пахотные и сенокосные угодья, водяную мельницу, весь имеющийся скот, инвентарь, словом — всё. На ее прошение последовал указ Святейшего Синода о разрешении устройства общины. Это было в 1868 году. В следующем году назначен был сюда священник, вдовый, — отец Андрей Щёголев. Руководителем же общины Калужский владыка Григорий назначил отца Гавриила.
Под его руководством в доме А.Е. Белокопытовой устроена была церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, и община названа была Казанской. В семье матери Белокопытовой находилась считавшаяся чудотворною Казанская икона Пречистой; по кончине матери она перешла к дочери, а теперь стала главной святыней обители. Здесь стало уже около 30 насельниц. После праведной кончины отца Гавриила, последовавшей 2 января 1871 года, архиепископ Григорий назначил руководителем общины настоятеля Тихоновой пустыни архимандрита Моисея.
Среди писем отца Амвросия есть одно, где он пишет о кончине отца Гавриила и о некоторых событиях его жизни. «Отец Гавриил, — писал он, — более года, как оказалось, ожидал смерти. Его присный ученик отец Николай Жураковский ездил в Белокопытову общину, которую отец Гавриил устраивал, и привез оттуда известие, что у отца Гавриила на листе собственною рукою означено, кому из сестер какую взять икону или вещь в случае его смерти, так как ему сказано (а каким образом, не означено), чтобы он помнил пятницу Василия Великого. Поэтому отец Гавриил готовился к смерти еще к прежнему Новому году; но тогда остался жив. В нынешнем же году, когда память Василия Великого действительно праздновалась в пятницу, отец Гавриил, как видно, опять готовился к смерти; накануне Нового года призвал духовника и исповедался, а 1-го и служил, но в литургии почувствовал себя нехорошо и после обедни не мог пить чаю, ни принимать пищи; впрочем, в этот день остался жив. Ночь всю, как сказывал сам, не спал. Утром, может быть, и думал, что опять останется жив, но заметно было, что чего-то ожидал, хотя и не говорил ничего о своей смерти. Часов около 10 утра быстро взглянул на икону Божией Матери с каким-то к Ней воззванием, потом спрятал лицо свое в подушку. Началась у него икота, которая продолжалась с полчаса; тем все и кончилось.