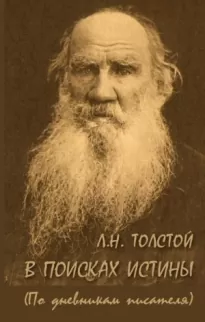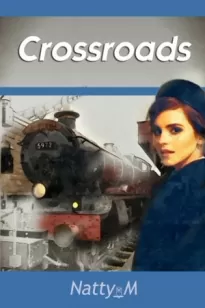Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
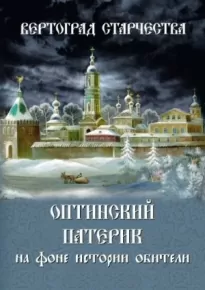
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Глава 35. Старец Анатолий (Потапов)
В цитировавшейся нами выше Летописи скита уже упоминалось имя архимандрита Вениамина, будущего митрополита. Тогда, в 1916 году, он, будучи в Оптиной пустыни, многое записывал. 7 августа, в день, подробно описанный отцом Кириллом в Летописи, когда происходил крестный ход с чудотворной Калужской иконой Богоматери, отец Вениамин вместе с братией встречал святыню на лесной дороге. «Вдруг я вижу, — пишет отец Вениамин, — как из нашей толпы некоторые отделяются от процессии и спешно-спешно торопятся в правую сторону. Через некоторое время там уже собралась густая толпа народа, плотным кольцом кого-то или что-то окружавшая. Из простого любопытства — впрочем, меня в монастыре все интересовало, — я тоже направился туда: в чем дело? Чтобы оставить икону Богородицы, нужна была какая-то особая причина к этому. Протискавшись немного к центру толпы, я увидел, что все с умиленной любовью и счастливыми улыбками смотрят на какого-то маленького монаха в клобуке, с седенькой, нерасчесанной небольшой бородкой. И он тоже всем улыбался немного. Толпа старалась получить от него благословение. И я увидел, как вокруг этого маленького старичка все точно светилось и радовалось… Так малые дети встречают родную мать.
— Кто это? — спрашиваю я соседа.
— Да батюшка отец Анатолий, — ласково ответил он, удивляясь, однако, моему неведению.
Я знал о нем, но не пришлось еще встретить его лично; да и не было особой нужды в этом: не имел никаких вопросов к нему. А теперь явился вопрос о нем самом: что за чудо? Люди оставили даже икону и устремились к человеку. Почему? И ответ явился сам собою: святой человек тоже чудо Божие, как и икона, только — живое чудо. Святой есть тоже образ Божий, воплощенный в человеке. Как в иконе, так и во святых людях живет Сам Бог Своею благодатью. <…> Когда Божия Матерь явилась с апостолами Петром и Иоанном святому Серафиму, то Она сказала им: “Сей — от роду нашего”. От того же роду был и батюшка отец Анатолий. Сколько радости, любви и ласки на всех окружающих проливалось от его лика в Оптинском лесу, на солнечной прогалине»533.
При втором своем посещении Оптиной архимандрит Вениамин пришел к старцу Анатолию с вопросом от своего друга, священника, который не мог приехать сам. У него начались нелады с его матушкой из-за того, что, строя храм и торопясь скорее его окончить, он все время опаздывал домой к обеду; молодая матушка несколько раз подогревала кушанья и наконец сказала, что, если дело так пойдет и дальше, она уйдет к родителям… Батюшка же, священник, запрашивал старца, кого ему предпочесть — храм или жену… Старец Анатолий, как пишет отец Вениамин, «выслушав с опущенными глазами историю моего товарища, стал сокрушенно качать головою, как бы говоря: “Ах, какая беда, беда-то какая!”. Потом, не колеблясь, хлопотливо начал говорить, чтобы батюшка в этом послушался матушки, иначе плохо будет, плохо. <…>
— Конечно, — сказал отец Анатолий, — и храм строить великое дело, но мир семейный хранить тоже святое Божие повеление: муж должен, по апостолу Павлу, любить жену, как самого себя; и сравнил апостол жену с Церковью (Еф.5:25–33). Вот как высок брак. Нужно сочетать и храм, и семейный мир. Иначе Богу неугодно будет и строение храма. А хитрый враг-диавол под видом добра хочет причинить зло: нужно разуметь нам козни его. Да, вот так и отпишите: пусть приходит вовремя к обеду. Всему есть свое время. Так и отпишите. — А потом, немного подумав, добавил:
— А тут добро-то добро: строить храм-то. Но к нему тайно примешивается и тщеславие… Да, примешивается, примешивается: ему хочется поскорее кончить… людям понравиться… Так и отпишите…
Я так и отписал. И дело, конечно, поправилось…»534.
Протоиерей Сергий Четвериков, бывавший у старца Анатолия в разное время, и тогда, когда тот жил в скиту, и потом, уже в монастыре, писал, что «около него создалась та особенная духовная атмосфера любви и почитания, которая окружает истинных старцев и в которой нет ни ханжества, ни истеричности. Отец Анатолий и по своему внешнему согбенному виду, и по своей манере выходить к народу в черной полумантии, и по своему стремительному, радостно-любовному и смиренному обращению с людьми напоминал преподобного Серафима Саровского. Обращала на себя внимание его особенная, благоговейная манера благословлять — с удерживанием некоторое время благословляющей руки около чела благословляемого. В нем ясно чувствовались дух и сила первых великих оптинских старцев»535.
В том же 1916 году посетил Оптину пустынь князь Н.Д. Жевахов, желавший посоветоваться со старцем — идти ли ему в монастырь или принять предложение Государя стать товарищем Обер-прокурора Святейшего Синода. В начале беседы князь сказал старцу:
«— Иной раз так тяжело от всяких противоречий и перекрестных вопросов, что я боюсь даже думать… Так и кажется, что сойду с ума от своих тяжелых дум.
— А это от гордости — ответил отец Анатолий.
— Какая там гордость, батюшка, — возразил я, — кажется мне, что я сам себя боюсь, всегда я старался быть везде последним…
— Это ничего, и гордость бывает разная. Есть гордость мирская — это мудрование; а есть гордость духовная — это самолюбие. Оно и точно, люди воистину с ума сходят, если на свой ум полагают да от него всего ожидают. А куда же нашему уму, ничтожному и зараженному, браться не за свое дело. Бери от него то, что он может дать, а большего не требуй… Наш учитель — смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А благодать Божия это всё… Там тебе и величайшая мудрость. Вот ты смирись и скажи себе: “Хотя я и песчинка земная, но и обо мне печется Господь, и да свершается надо мной воля Божия”. Вот если ты скажешь это не умом только, но и сердцем и действительно смело, как подобает истинному христианину, положишься на Господа с твердым намерением безропотно подчиняться воле Божией, какова бы она ни была, — тогда рассеются пред тобою тучи, и выглянет солнышко, и осветит тебя и согреет, и познаешь ты истинную радость от Господа, и все покажется тебе ясным и прозрачным, и перестанешь ты мучиться, и легко станет тебе на душе»536.
Что касается должности товарища Обер-прокурора, то отец Анатолий сказал: «Коли Царь зовет, значит — зовет Бог. А Господь зовет тех, кто любит Царя, ибо Сам любит Царя и знает, что и ты Царя любишь… Нет греха больше, как противление воле Помазанника Божия… Береги его, ибо им держится земля Русская и вера Православная… Молись за Царя и заслоняй его от недобрых людей, слуг сатанинских… <…> Судьба Царя — судьба России. Радоваться будет Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия, а… не будет Царя, не будет и России»537.
Преподобный Анатолий родился в 1855 году в Москве, звали его Александром Алексеевичем Потаповым. Отец его был из мещан и занимался торговлей. Семья была большая и жила по православным обычаям. Александр учился в уездном училище, но уже, кажется, не в Москве, и неизвестно — доучился ли до конца, так как отец его скончался и пришлось его матери и старшим детям поддерживать торговлю «красным товаром» (тканями). Из воспоминаний об отце Анатолии монахини Домны следует, что перед поступлением в Оптину пустынь Александр жил с матерью в Калуге, где был приказчиком, может быть уже и не в своей лавке. С отрочества имевший теплую веру в Бога, Александр мечтал о монашестве и не раз делал попытки свою мечту осуществить. «Когда я был молод, — вспоминал старец, — я хотел быть монахом, а мать не пустила, не хотела, и я ушел в монастырь тогда, когда она умерла». Он говорил, что «одиннадцать лет жил в мире с матерью после того, как уже твердо решил идти в монастырь. А вот пришло время, и Бог помог осуществить мне мое желание»538.
Ему было тридцать лет, когда он прибыл в Оптину пустынь. 15 февраля 1885 года он стал послушником и был назначен келейником старца Амвросия. Через три года послушник Александр удостоился пострижения в рясофор. Будущий келейник старца Анатолия иеромонах Варнава вспоминал, как он в первое время жизни в обители ходил в скит: «Придешь, бывало, к отцу Амвросию, а отец Анатолий — да как это отворит, да как-то посмотрит, да улыбнется, да обласкает…» (он еще заметил: «А уж как красив был батюшка Анатолий… Ну, прямо как Ангел»). Богомольцы полушутя говорили: «Какой чудесный келейник у отца Амвросия, лучше самого батюшки!»539. После кончины отца Амвросия отец Анатолий стал келейником старца Иосифа. 3 июня 1895 года рясофорный инок Александр был пострижен в мантию с именем Анатолий. 5 июля 1899 года состоялось его рукоположение во иеродиакона. Иеромонахом он стал 27 марта 1906 года. А еще 6 марта указом Калужской Консистории он был назначен духовником сестер Шамординской обители. К этому времени отец Анатолий — уже известный в народе благодатный старец. В его скитскую келию приходило столько народа, что иногда и самому настоятелю обители, архимандриту Ксенофонту, трудно было протиснуться сквозь толпу, чтобы попасть на исповедь к отцу Анатолию. 4 июля 1908 года по благословению настоятеля старец переселился в монастырь, будучи назначенным на место скончавшегося монастырского духовника иеросхимонаха Саввы, жившего в келии при больничной Владимирской церкви. С этого времени отец Анатолий, постоянно пребывая в храме, принимал мирян, — весь день, и даже до полуночи не закрывались церковные двери. Но в этой келии старец прожил лишь три года — она оказалась для него слишком сырой. Он перешел в церковный дом, что напротив храма, и там провел десять лет. Он исповедовал, брал людей к себе в келию для духовной беседы, часто проводил во Владимирской церкви для особенно немощных Таинство Соборования. Он поистине был народным утешителем, да к нему по большей части и шли все простые люди — крестьяне, купцы, мещане… Приходили со своими трудностями, с крайней озабоченностью, иногда в тяжком унынии, а уходили утешенными, укрепленными в вере и надежде, обласканными старческой любовью о Христе.
Когда Великий князь Дмитрий Константинович пожертвовал участок принадлежавшей ему земли близ Петрограда под Шамординское подворье (близ Стрельны), то старец Анатолий, как шамординский духовник, поехал на его закладку. Это было осенью 1916 года. Остановился он в доме купца Михаила Дмитриевича Усова на Гороховой улице, — благочестивый этот купец, благотворитель, часто бывал в Оптиной пустыни. В Петрограде старец не имел ни минуты отдыха… Супруга историка Оптиной пустыни И.М. Концевича Е.Ю. Концевич (племянница С.А. Нилуса) тогда, осенью 1916 года, побывала в доме Усовых вместе со своими братом и сестрой. «Когда мы вошли в дом Усовых, — писала она, — мы увидели огромную очередь людей, пришедших получить старческое благословение. Очередь шла по лестнице до квартиры Усовых и по залам и комнатам их дома. Все ждали выхода старца. Ожидало приема и семейство Волжина — Обер-прокурора Святейшего Синода. В числе ожидающих стоял один еще молодой архимандрит, который имел очень представительный и в себе уверенный вид. Скоро его позвали к старцу. Там он оставался довольно долго. Кто-то из публики возроптал по сему поводу, но кто-то из здесь же стоящих возразил, что старец не без причины его так долго держит. Когда архимандрит вышел — он был неузнаваем: вошел к старцу один человек, а вышел совсем другой! Он был низко согнутый и весь в слезах, — куда девалась гордая осанка! Их тайный разговор одному Богу известен! Вскоре показался сам старец и стал благословлять присутствующих, говоря каждому несколько слов. Отец Анатолий внешностью походил на иконы преподобного Серафима: такой же любвеобильный, смиренный облик. Это было само смирение и такая не передаваемая словами любовь. Нужно видеть, а выразить в словах — нельзя! <…> Члены семьи Усовых стали упрекать сидевшую публику в том, что люди чрезмерно обременяют слабого и болезненного старца. Принимает он людей все ночи напролет. Ноги у него в ранах, страдает он грыжей, он чуть живой»540.