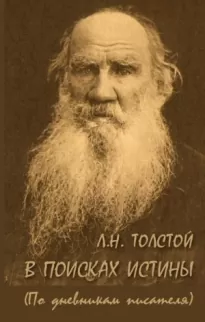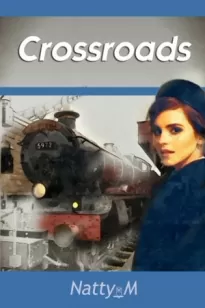Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
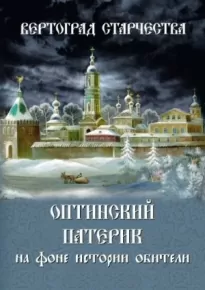
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
22 апреля была Пасха. На следующий день, как сообщается в Летописи скита, «в храме святого Иоанна Предтечи торжественно совершена литургия всечестнейшим отцом архимандритом Исаакием в сослужении достопочтеннейшего нашего аввы игумена Феодосия, отца Никона (из монастыря)553 и отца Пиора. На богослужении присутствовали архимандрит отец Агапит и старец отец Нектарий»554.
Летом всех поразила страшная весть о том, что в Екатеринбурге в ночь с 4 на 5 июля расстрелян Государь Николай Александрович со всей своей семьей и с некоторыми верными людьми, разделявшими с ним заточение. Патриарх Тихон провел совещание Соборного Совета, решено было совершить панихиду по убиенному Императору. В протоколе заседания есть приписка Патриарха: «Благословляю архипастырей и пастырей молиться о сем на местах». Церковь решительно осудила убийц и призвала каждого русского осудить это злодеяние.
Оптина пустынь молитвами иноков и множества русских богомольцев хотя и под видом некоей артели, но держалась, не оставляла ни богослужений, ни духовного окормления богомольцев переживавших в большинстве своем очень трудные времена. Осенью 1918 года Агрономический совет Козельского комиссариата пригласил оптинских «руководителей» (очевидно, архимандрита Исаакия и игумена Феодосия) на совещание по вопросу «подъема народного хозяйства» и предложил, а вернее было бы назвать это предложение приказом, организовать на базе племенного стада сельхозартели Оптино племенной рассадник крупного рогатого скота для всего уезда. Сохранился один любопытный документ, показывающий, что «рассадник» появился в это время не без Промысла Божия: благодаря ему не были тогда призваны в набиравшуюся большевиками армию последние работоспособные оптинские монахи.
Вот этот документ: «Список лиц, подлежащих отправке в Калугу для переосвидетельствования на основании распоряжения Козельского военного комиссариата от 14.11.1918 г. и необходимо требующихся для Племенного рассадника Оптинской трудовой артели и обслуживающих хозяйство рассадника в качестве рабочих:
Конный двор: Иван Ледовский, Дионисий Романенков, Николай Климов, Никита Сучков.
Канцелярия: К(ирилл) Зленко, В. Никольский, Никон Беляев.
Погреб: Ириней Лузгин.
Сад: Вас. Кутляков, Алексей Соболев, Павел Драчёв, Андрей Синицын.
Огороды: Дан. Фомин, Фед. Старых.
Скотный двор: Алексей Батурин, Варсонофий Ванюшкин, Александр Дегтев, Димитрий Карпов, Сергей Ежов.
Пасека: Пётр Барабин, Григорий Ермаков.
Заготовка дров: Стеф. Левченко, Иосиф Авдулов.
Портной: Савва Суслов.
Кухня: Пантелеимон Шибанов, Диодор Хомутов.
Хлебопекарня: Вас. Белоградский.
Кузнец: Григорий Аржаных.
Больница: Як. Сивцов, Фил. Ибраимов, Пётр Голубов.
Сапожник: Леонтий Николаев.
Слесарь: Аверкий Чеботарёв.
Шорник: Алексей Шорин».
Однако власти при каждом удобном случае заменяли монахов в этом племенном рассаднике всякими случайными рабочими. Скоро это сказалось на качестве работы: поголовье скота начало быстро уменьшаться… Когда архимандрит Исаакий выразил протест против развала хорошо налаженного хозяйства, он был отстранен от руководства рассадником. Оптина продолжала еще держаться, но уже другим: ее не разрушили потому, что она вошла в список исторически важных и ценных культурных объектов. В 1919 году она была передана под руководство московского управления Главнаука, где был отдел музеев. Главнаука и организовала в Оптиной музей, и взяла под свою опеку богатую библиотеку монастыря555. В штат работников музея и библиотеки вошли монахи, но уже в гораздо меньшем количестве, чем было их в племенном рассаднике. Козельским властям не нравилось, что Оптина оказалась переподчиненной Центру, однако они ничего не могли поделать. Но своего коменданта они в монастыре поселили: следить за «порядком»…556
Обстановка вокруг монастыря накалялась. Спустя год заведующая музеем Л.В. Защук писала в Главнауку: «Привоз на местную лесопилку двигателя в 60 сил вызвал донос… будто в Оптину пустынь привезена пулеметная машина, и из Калуги был послан большой отряд для укрощения мнимой контрреволюции, для поголовных обысков и привода в Калужскую тюрьму двадцати деятелей района с зав. музеем Защук включительно. Разумеется, через неделю все они были возвращены обратно»557.
Из письма старца Анатолия к С.И. Шатровой (1919) видно, как быстро назревала разруха в монастыре. «Современная… власть, — писал он, — стремится к прекращению притока богомольцев и уже дошла в этом направлении до отнятия у нас гостиниц, кроме одной, находящейся уже под угрозой, и доведения искусственного голода до сокращающих жизнь размеров, взяв на работы… в Калугу до 100 монахов, принудив половину оставшихся к службе в “племенном рассаднике”, захватившем обительские огороды и скотный двор, а также конный в свою пользу, водворив в обители богадельни, приюты, Красную армию»558.
Около 60 монахов забрали на военную службу. Пожилых хотели было запереть в богадельне, подальше от богомольцев, но это не вышло. Арестовали отцов Исаакия и Никона, хотя вскоре и отпустили. Старец Анатолий писал: «Мы до конца потерпим с помощию Божиею»559. «Первые годы после революции старец Анатолий продолжал жить в том же доме неподалеку от Владимирской церкви (в которой после закрытия монастыря расположился музей). У него в распоряжении было три комнаты (спальня, довольно большая приемная, маленькая комнатка для келейника) и так называемая “ожидальня”. В зимнее время в доме из-за нехватки дров почти не топили. Щепки для топки приходилось разыскивать под снегом. “Распропагандированная” молодежь била стекла в доме старца, одну зиму дом простоял с несколькими выбитыми окнами. В морозные ночи вода, если ее забывали вылить, застывала в кружках на столе. Келейное правило читали при свете единственного светильника. Келейники и гости спали не раздеваясь. На голову, кроме шапки и платков, надевали башлыки»560.
В конце 1919 года старца Анатолия переселили в скит, он занял там свою старую келию. «Время страшное, и трудное, и тяжелое, и голодное, и холодное для всех», — писал старец чадам.
Отец Евстигней, бывший келейником у старца Анатолия с 1917 года до его кончины, писал об этом времени: «Когда был голод, то батюшкины внуки, дети его племянницы, с нянькой жили у моего брата на моей родине». Он описал тогдашний быт в скиту, как они жили: «С вечера мы с батюшкой вместе молились. Читал молитвы я, а батюшка, стоя, сидя, а то и лежа, молился, смотря по состоянию здоровья. Лягу, бывало, я часов в 10–11, батюшка сидит до 12-ти и до часу, в письмах разбирается. Встанет часа в 4. Утром молился каждый сам по себе, батюшка же опять все с письмами возился, а что еще делал — не знаю. Подмету комнату, накрою ему на стол, в скоромные дни сварю яичко, поставлю самовар и иду в шесть к обедне. Батюшка постоянно меня понукал, чтобы я в церковь ходил, а сам, бывало, только по праздникам, а когда был покрепче, то и служил. К чаю приступал не раньше как пропоют в церкви “Достойно…”. Приду я от обедни, смотрю, самовар-то снова кипит, подложил батюшка угольков, хоть и нелегко ему это было сделать, самовар-то нужно было поднять, при его-то болезни, а уж он не стерпит, все подбросит угольков.
После обедни начинался прием, продолжался часов до десяти, а то и дольше. Перерыв был среди дня на два часа, дверь келии закрывалась; в это время батюшка отдыхал с полчаса, обедал, а остальное время опять все в письмах разбирался.
Обед нам приносили. Ели мы с батюшкой за одним столом, ел он очень мало. К ужину делал я ему яичницу из двух яиц с полустаканом молока; пышки, бывало, ему подобью, а он половину съест, а половину оставит, больше половины никогда не съедал.
Любил батюшка чистоту и порядок во всем. <…> Ноги батюшке я бинтовал, зиму и лето носил он валенки. Десятки этих валенок проходило через его руки, а носил он все одни и те же; прохудятся, даст подшить подошву и опять их же надевает. А я первое время дивился, что это так батюшка скупится, не сменит валенок. Была как-то раз нужда послать монаха по сбору, не было у него валенок; попросил у одного, другого, третьего монаха — никто не дает. Пришел к нам; а у нас в то время тоже лишних не было. Снял батюшка с себя валенки да и отдал монаху. Три недели батюшка проходил в высоких сапогах, пока монах не вернулся.
Успокаивал батюшка на моих глазах бесноватых. По виду, бывало, не узнаешь, которая больная: стоит, ждет смирно, как и все. Выйдет батюшка — она и пошла волноваться. Крестным знамением больше он их успокаивал, много-много раз крестил. <…> Кропил водичкой, мазал маслицем, но к этому реже прибегал, а все больше крестом успокаивал. Был раз такой случай: вошла к батюшке женщина, с виду такая полная, здоровая. Прошло немного времени, слышу неистовый крик; вбегаю, лежит на полу распростертая, как мертвая, не шелохнется; батюшка начинает ее крестить: как только руку поднимет, так она вся вздрогнет, а потом уж дальше — больше, начинает в себя приходить. <…> Видел я такие случаи и у других иеромонахов, — он-то крестит, а она лежит спокойно»561.
Монахиня Домна, стиравшая батюшке белье, вспоминала: «Все отобрали у него и у отца Евстигнея тоже. Прихожу, он сидит на диванчике. “Скорбите, батюшка?” — “Ничего. Давай-ка поглядим в комоде, что у нас из белья осталось”. Нашли две рубашки. Я говорю: “Да, у меня еще, батюшка, есть ваша грязная рубашка”. — “Ну вот и довольно!”»562.
Шамординские сестры пользовались каждым случаем, чтобы побывать у своего духовного отца. А иногда и он сам ездил в Шамордино, даже в самые трудные времена, как, например, в 1919–1920-х годах. Однажды он приехал и застрял там из-за проливных дождей, а сестры и рады были: десять дней батюшка принимал их, беседовал, благословлял. Старец писал летом 1920 года: «…я нахожусь в Шамордино. Господь послал тихую и хорошую погодку 5 июля, и я… приехал сюда хорошо, но сейчас что-то все идет дождик, хотя это для сестер здешних желательно, так как за непогодою они могут перебыть лишний день дома и заняться со мною, а в ясную погоду все должны быть на лугах и на дачах. Сегодня, 8 июля, здесь, в Шамордино, престольный праздник “Казанския Божия Матери”. Служба была торжественная и пение хорошее, был крестный ход вокруг монастыря и приезжие монашечки. Спаси их, Матерь Божия. Поусердствовали и пришли сюда на праздничек»563.
По благословению отца Анатолия шамординские сестры ездили выискивать на какие-нибудь вещи хлеб. Благословение (как они заметили) чудесно помогало им в этом весьма трудном тогда деле, — они привозили хлеб и сами удивлялись, что это им удалось. Чадо отца Анатолия мать Амвросия была пострижена им в 1919 году; она была врачом, лечила сестер, помогала и старцу в его недугах, а также ездила и за хлебом.
Как ни казался старец Анатолий «прост» в отличие от получивших образование, но церковное печатное слово занимало в его жизни свое место. Он имел всегда запас брошюр и листков духовного содержания и почти никого не отпускал без того, чтобы дать что-нибудь из этого, и всегда это было к месту и на пользу духовную… Имел он и небольшую келейную библиотеку, которую архимандрит Исаакий передал после его кончины в библиотеку монастырскую. Ее все же считали еще монастырской, хотя в 1919 году она перешла из ведения Главнауки в Народный Комиссариат просвещения, в отдел научных библиотек. Сотрудники Оптинской научной библиотеки (скитская была ее филиалом) получали зарплату через Москву. Время от времени козельские власти запрашивали списки сотрудников музея и библиотеки. Ее тогдашний заведующий, отец Иосиф (Полевой), переписывал и распределял по предложенным графам своих трех сотрудников. Получался такой перечень: