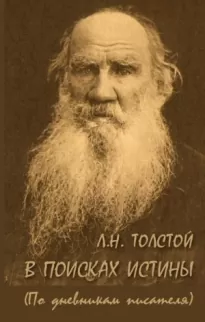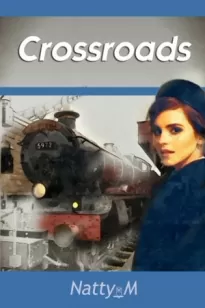Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
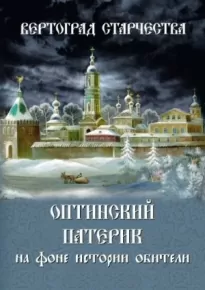
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Больной и слабый старец Анатолий много духовных сил возрождал в приходивших к нему с вопросами, жалобами, укреплял в вере Христовой. В Оптиной стало трудно жить. Духовные чада предложили старцу Анатолию, имея в виду, конечно, его телесные немощи, поселиться где-нибудь в деревне, в тишине. «Что же в такое время я оставлю святую обитель, — сказал он, — Меня всякий сочтет за труса, скажет: когда жилось хорошо, то говорил: терпите, Бог не оставит, — когда пришло испытание, первый удрал. Я хотя больной и слабый, но решил так и с Божией помощию буду терпеть. Если и погонют, то тогда оставлю святую обитель, когда никого не будет. Последний выйду, и помолюсь, и останкам святых старцев поклонюсь, тогда и пойду»570.
В келии старца произвели обыск, вернее, под видом обыска ограбили: забрали все более или менее пригодные вещи, даже белье. Вскоре последовал и арест. Мать Анатолия (Мелехова), монахиня Шамординского монастыря, рассказывала: «Когда батюшку арестовали, то повели его вместе с владыкой Михеем в Стенино, на железнодорожную станцию, пешком по льду и снегу. Отец Евстигней просил благословения нанять лошадку, а отец Анатолий не благословил: “Зачем лошадь, так дойдем; мне очень хорошо”. В Стенине [в ожидании поезда] привели их к дяде Тимофею [почитателю старца]. Отец Анатолий был грустен. Дядя Тимофей спросил: “Что это вы, батюшка, печальный такой?”. А он ответил: “Да уж это последнее”. Когда ему стали выражать соболезнования, что вот его везут в Калугу, он сказал: “Что это вы, что? Да люди добиваются ехать в Калугу, да не могут, а меня бесплатно везут, а мне как раз нужно к владыке, просить благословения на схиму, вот я и воспользуюсь случаем”».
Когда старца отправили в Калугу, то мать Анатолия, как она рассказывала, послала к нему сестру-монахиню узнать, как он там помещен. «Сестра нашла его в больнице — кровать у самой двери и на сквозном ветру. А батюшка лежит такой веселый, что просто диво. Отдал сестре этой грязное белье — все в крови (когда шел пешком от вокзала до милиции, то грыжа кровоточила). Когда батюшка вернулся из Калуги остриженный, то многие его не узнали сначала, а потом, признав, были удручены его видом, а он сам веселый, вошел в келию и сказал: “Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!”. Пил с нами чай и был такой веселый — не мог оставаться на месте — все рассказывал о поездке в Калугу: “Как там хорошо. Какие люди хорошие. Когда мы ехали в поезде, у меня была рвота. До ЧеКа мы дошли пешком, а там владыка Михей почему-то стал требовать лошадь. Зачем это он выдумал? Все братия пошли, а мы сидели в ЧеКа; там курили, было душно; у меня поднялась рвота, и меня отправили в больницу, подумали, что у меня тиф. Там меня остригли, но это ничего — так гораздо легче. Доктор такой хороший, сказал, что он по ошибке счел меня за тифозного и велел остричь, — очень извинялся. Такой хороший! Сторож в больнице тоже очень хороший — говорил, что, сколько лет собирался в Оптину, все не мог собраться и так был рад, что я приехал в Калугу… Сестра тоже очень хорошая, — была у отца Амвросия”.
Когда батюшку положили в больницу, то больные очень шумели, а когда увидели его, как тихо он лежит, то притихли и они и стали друг друга останавливать. А потом видят, что он тихо молитвы шепчет, спросили, что это он говорит, и, когда узнали, что он молится, попросили его читать молитвы вслух»571.
Старец Анатолий в этом году сильно ослабел. О его болезни пишет мать Амвросия. Ее позвали к старцу, так как доктор Алексей Васильевич Казанский, служивший в оптинской больнице (до революции он был врачом на императорской яхте «Штандарт»), был в отъезде, однако он именно в этот час и вернулся. «У батюшки была огромная грыжа, — писала мать Амвросия, — временами она ущемлялась, и теперь было неполное ущемление. Я поселилась у батюшки. У него было три комнаты и ожидальня… <…> Лечили мы батюшку вдвоем с доктором Казанским… Несмотря на все наши старания, болезнь все ухудшалась. Батюшка все бледнел, слабел. Я сказала отцу архимандриту Исаакию, что болезнь очень серьезная, как он думает насчет схимы. Отец архимандрит предложил батюшке. Положение больного было очень тяжелым: он ничего не ел, состояние было такое — вроде бреда. Видно, организм постепенно отравлялся.
Во время пострига он был так слаб, что не в состоянии был сам держать свечку, а голос был едва-едва уловимый. Мало было надежды на выздоровление. Прошло несколько тяжелых дней, и — Господь дал — батюшке сделалось немного лучше, он мог кое-что есть. Теперь на батюшке была надета скуфейка с белым крестом. <…> Помню, что батюшка, несмотря на свою болезнь, все заботился, есть ли у нас с келейником что поесть. А когда стал немного подниматься, велит приготовить обед и сам из каждого кушанья попробует и благословит нас… А келейник отец Евстигней все еще был болен и лежал в больнице. Когда батюшка немного окреп, но еще лежал, я, сидя на скамеечке около его постели, иногда читала ему. <…> Когда возвратился отец Евстигней, я отправилась в свой монастырь»572.
За две недели перед кончиной (на следующее лето после пострига в схиму), после обедни, отец Анатолий пришел к могилке старца Амвросия и стал на то место, где он потом и был похоронен. Долго стоял здесь. И сказал: «А тут ведь вполне можно положить еще одного. Как раз место для одной могилки. Да, да, как раз…»573.
С 11 по 15 июля 1922 года старец был в поездке, у духовных чад своих по случаю их именин, у одной Ольги (Черепановой) и у другой Ольги, игумении. Вернулся больной, с температурой. Вечером 29 июля приехали в скит чекисты, устроили отцу Анатолию допрос и хотели сразу увезти. Старец попросил отсрочки до следующего дня, чтобы можно было приготовиться ему «в путь». Те пригрозили келейникам, требуя, чтоб к завтрашнему дню все было готово, и уехали.
«Последнюю ночь старец Анатолий провел один у себя в келии без сна. Келейники боялись беспокоить батюшку. К утру старец сильно изнемог. Когда отец Евстигней рано утром вошел в келию старца, нашел его стоящим на коленях на полу у кровати. “Что с вами, батюшка?”. Старец сказал, что ему нехорошо, но не позволил позвать доктора, ибо не хотел никого беспокоить. Келейник помог старцу лечь на кровать и спросил благословения позвать казначея отца Пантелеимона — он был опытным фельдшером. Старец несколько минут не отвечал. Потом сказал: “Сходи”. Это было его последнее слово. Когда келейник отец Евстигней вернулся, старец неподвижно сидел в кресле со склоненной набок головой; батюшка Анатолий в молитве предал свою душу Богу. Вскоре пришел отец Пантелеимон…»574. Было 30 июля 1922 года, 5 часов 40 минут утра.
Вскоре приехали чекисты… «Старец готов?» — «Да, готов», — ответил келейник отец Варнава и открыл дверь… Посреди келии стоял гроб.
Отпет был старец Анатолий в Казанском соборе, последнем еще действовавшем в Оптиной пустыни храме. А погребен был там, где недавно стоял в раздумье, — возле могилы отца Амвросия. В часовне, над могилой старца Анатолия было воздвигнуто деревянное надгробие с надписями: «О сем уразумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще имате любовь между собою» (Ин.13:35). «Пребываяй в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает» (1Ин.4:16)575.
Осиротевшие духовные чада отца Анатолия почти все перешли к старцу Нектарию. Люди бедствовали, и, хотя он не предсказывал прекращения этих бед, люди выходили из его келии утешенными. Он говорил иногда прямо так: «Будет все хуже, хуже и хуже»576.
Сергей Николаевич Дурылин (писатель, искусствовед, человек, близкий к «мечёвскому» приходу в Москве на Маросейке) бывал в Оптиной в 1917–1922 годах. В своих дневниках он описывает имевшуюся у него фотографию отца Анатолия, снятую за две недели до его кончины: «Простое русское (конечно, великорусское) старческое лицо — из крестьян, из мещан (он и был московский мещанин), из ремесленников, с негустой бородой, никогда, видно, не подстригаемой, с реденькими уже волосами… руки корявые, рабочие, натруженные, с большими ревматическими суставами… Глубокая, изведанная опытом многих тысяч сердец и душ грусть залегла в складках (поперечных) между бровями и в трудной напряженности бровей. Глаза из-под покорных им, не затемняющих и не заграждающих их век, глаза пристальные, зоркие и даже строгие — не укоряющие, а горестно-строгие, видящие глаза, и видящие то, что неизбежно видеть на земле: безумие и горести… Губы сомкнуты под седыми широкими усами, почти не видны, но и в замкнутости — строгость, и тоже — горестная». И далее — некоторые черты к общей характеристике старца: «В отце Анатолии (как и в его старце и учителе Амвросии и в других, им подобных) поражала насущнейшая нужность его для всякого. Я не встречал человека, которому бы, встретясь с ним, отец Анатолий оказался не нужен, излишен… Круг “нужности” отца Анатолия поистине был огромен: от убогой калужской бабы… до утонченнейшего интеллигента, изломаннейшего поэта, государственного лица… Я видел нужность отца Анатолия бесконечным потокам народного моря, плескавшим в Оптину в годы войны мутным, вспененным, недобрым зачастую потоком. Я видел у отца Анатолия толстовцев, “добролюбовцев”, теософов, вольнодумцев, революционеров — и у каждого оказывалась с ним точка подлинной, разнообъемной, но одинаково действительной нужности… Он никогда и никому, сколько знаю, не приказывал и не повелевал никем, хотя знаю десятки людей, только и желавших, чтоб он приказывал им и повелевал ими. Я сам был одним из них долгие годы. Вероятно, если б сказать ему, что он высоко ценит свободу человеческую и свободное деяние человека, он засуетился бы, замял бы разговор с детскою стеснительностью, с улыбкой пощады… А он действительно ценил эту свободу. Он был щедр на терпенье… И его радовал всякий слабый, еле приметный, но свободный росток добра в самой заскорузлой непаханной душе»577.
В первые послереволюционные годы в монастыре и в скиту было похоронено немногим более десяти насельников. Среди них старец Анатолий, скитоначальник отец Феодосий (†9 марта 1920 года, погребен в монастыре), схиархимандрит Агапит (Беловидов), скончавшийся восьмидесяти трех лет и также похороненный в монастыре (†23 февраля 1922 года). Затем упомянем монаха Мартимиана (в мире Михаил Александрович Васильев-Белоградский, родился 25 сентября 1877 года. Скончался в апреле 1918 года. Крестьянин из Тверской губернии. Поступил в Оптину 19 января 1910 года, пострижен в мантию 21 марта 1915 года. Был пять лет гостинником; похоронен в монастыре). И еще четверо, упокоившиеся на монастырском кладбище: иеромонах Иезекииль, скончавшийся 29 февраля 1920 года (и больше никаких сведений о нем нет); иеросхимонах Пиор. Духовник сестер Казанской Амвросиевской пустыни, скончался 6 января 1921 года (и о нем пока не имеем что прибавить); иеродиакон Акакий, могила которого рядом с могилой отца Пиора: отец Акакий был его келейником и скончался с ним в один день — 6 января 1921 года; монах Герасим, болящий, скончался 26 марта 1921 года сорока трех лет от роду. В скиту: монах Афанасий (в мире Афанасий Степанович Сапрыкин, крестьянин села Тележья Малоархангельского уезда Орловской губернии, в скит поступил 30 марта 1893 года, в какое-то время пострижен был в рясофор). Прожив двадцать лет в скиту, заболел, в больнице его постригли в малую схиму (постригал смотритель больницы иеромонах Досифей Чучурюкин), и через два часа он скончался, будучи восьмидесяти трех лет от роду, похоронен был на больничном кладбище рядом с его сыном по плоти рясофорным монахом Мироном. Погребение совершали скитские иеромонах Осия и иеродиакон Иоанникий578.