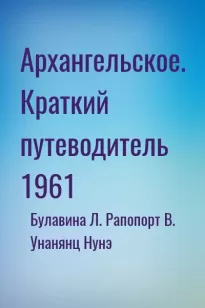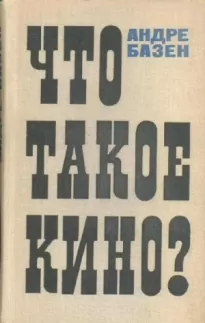Кинематограф оттепели. Пространство, материальность, движение

- Автор: Лида Укадерова
- Жанр: Культурология / Кино
Читать книгу "Кинематограф оттепели. Пространство, материальность, движение"
От пантеизма к мимесису
В одном из наиболее жестких отзывов об операторской работе Урусевского в «Неотправленном письме» И. А. Кокорева отмечает, что проблема заключается не в формальных излишествах его работы с камерой, а в выражаемом ею неприемлемом мироощущении, которое чиновница характеризует как «пантеистическое»[60]. Объясняя свою позицию, она пишет: «Пантеизм обязательно приводит к рассматриванию человека, как бы растворенного в мире, в соотношении с природой, в слиянии с ней. <…> Это созерцательная позиция в искусстве»[61]. Кокорева несколько раз повторяет свое главное возражение, настаивая на том, что очевидная эмоциональная безучастность к трагической судьбе героев фильма, которых «поглощает» пространство тайги, стала следствием того, что, с точки зрения Урусевского, «сам по себе человек ничто», а «живое существо в картине в первую очередь вся натура, весь мир»[62]. Для автора отзыва такая позиция по определению носит антисоветский характер.
Илл. 9а–г. Тела геологов принимают форму ландшафта. Кадры из фильма «Неотправленное письмо», 1959
Илл. 10а, б. Ландшафт без намека на местоположение и масштаб, которые обнаруживаются лишь после появления фигур героев. Кадры из фильма «Неотправленное письмо», 1959
Говоря о холодности и равнодушии Урусевского, Кокорева указывает на то, что его операторская работа, знаменитая мощью в передаче чувств, лишилась своей силы эмоционального воздействия, притом что набор технических приемов остался таким же, как и в прославленном фильме «Летят журавли». Данная оценка заслуживает особого внимания, поскольку если сравнивать эти две ленты, то очевидно, что работа Урусевского действительно претерпевает серьезное развитие. Хотя в обеих картинах камера динамична, подвижна и субъективно переживаема, в «Журавлях» она зачастую связана с внутренним опытом главного героя, который Урусевский воплощает посредством ее движения. Субъективное поведение его киноаппарата в «Неотправленном письме», в свою очередь, не всегда связано с определенным персонажем. Напротив, подобные моменты делают ощутимым присутствие самого пространства – как чего-то, на самом деле обладающего собственными телом и взглядом, отдельными от людей, а не просто как внешнего выражения их чувств[63]. Будучи таким образом одновременно субъективным и объективным, конкретным и обобщающим, пространственное тело «Неотправленного письма» лишено психологической и эмоциональной, ра́вно как исторической или политической мотивации, которая могла бы объяснить его движения. В силу этого данное «тело» видит в самих героях лишь физическую материю, не глубину, а лишь поверхность, за которой неразличим их внутренний мир, – и как результат делает возможным пантеистическое прочтение визуального решения фильма. В данном случае перед нами не столько антропоморфизм пространства, сколько наделение пространственностью человеческих фигур.
Одно из наиболее сложных с формальной точки зрения проявлений этого процесса имеет место в сцене Таниной смерти, вскоре после кадров первого снега, что обсуждались чуть выше. Двое героев бредут через поля, Таня на глазах слабеет, и Константин неожиданно понимает, что она больше не идет рядом. В череде движений, которые вновь расшатывают зрительскую пространственную ориентацию, он ищет ее и наконец находит рухнувшей на землю. Пока Константин несет ее неподвижное тело, остается неясным, жива ли Таня. На то, что она умерла, в конечном счете указывает ее неподвижное, безжизненное лицо, снятое среднекрупным планом (илл. 11а), далее же следует плавное затемнение, в начале которого ее облик сливается с окружающими ветвями (илл. 11б), а в завершение мы видим размытый неподвижный кадр обледенелого окружающего пространства, снятый будто бы с точки зрения умершей (илл. 11в). В этом эпизоде осуществляется переход от ее лица как элемента окружающей среды к ее взгляду на эту же среду, что порождает крайне необычную взаимосвязь внутреннего и внешнего. Таня является пространством и в то же самое время смотрит на него. Хотя в рамках повествовательной логики фильма она мертва, она по-прежнему «жива» на формальном уровне как «пространство», по-прежнему обладающее способностью смотреть, о чем свидетельствует операторская работа Урусевского.
Илл. 11а–в. Танина смерть как растворение в окружающей среде. Кадры из фильма «Неотправленное письмо», 1959
Хотя вторую часть «Неотправленного письма» вполне можно понимать как поворот колеса фортуны – поглощение природы человеком оборачивается поглощением человека природой – образы физической ассимиляции в окружающую среду, которыми наполнен фильм, предполагают более глубокое толкование, как интуитивно поняла Кокорева в своем отзыве. В постоянном изображении сливающихся поверхностей картина как бы ищет возможные формы познания пространства, отличные от тех, что дает картография. Телесная интеграция и неопосредованная близость с ландшафтом, последовательно изображаемые Калатозовым и Урусевским, превращаются в новый эпистемологический принцип, стремящийся постичь окружающую среду через ее миметическое приближение – получить доступ к пространству, будучи подобным ему на самом непосредственном уровне, говоря визуально и физиологически. Наконец, поразительно то, что все три смерти в фильме представлены как проявления пространственной интеграции (хотя не все они изображены столь же детально, как гибель Тани), но при этом на экране ни одно собственно мертвое тело открыто не изображается, позволяя предположить, что, возможно, участники экспедиции остаются неким образом живы внутри фактуры поглотившего их пространства. И хотя стремление кинематографистов видеть и создавать формальные сходства там, где их быть не должно (в соответствии с социалистическим разделением между природой и человечеством), можно рассматривать как энтропическое, эстетическая сверхдетерминация данных процессов – их продолжительное и поэтическое изображение – требует более глубокого понимания.
В своих работах 1920-х и 1930-х годов Вальтер Беньямин рассматривал мимесис как преобладающий способ бытия в первобытных и доисторических обществах, касаясь областей сакрального и оккультного, мифического и астрологического. Так, он отмечал: «Присущий нам дар видеть сходство – лишь бледная тень былого непреодолимого желания быть похожим и действовать миметически» [Benjamin 1999b: 693]. Хотя подобное стремление в буржуазных обществах эпохи модерна практически угасло, Беньямин неоднократно настаивал на том, что оно по-прежнему занимает центральное место в том, как взаимодействуют с окружающим миром дети. Уподобляя себя не только людям и их действиям, но и любому объекту вокруг себя – играя «не только в продавца или учителя, но и в ветряную мельницу, и в железную дорогу», – дети обретают доступ к этим объектам на доконцептуальном уровне, посредством телесной игры, в процессе которой стирают различия между собой и другим [Беньямин 2012: 171]. Хотя стремление к имитации исчезает в процессе взросления, оно никогда не умирает полностью, продолжая присутствовать, с точки зрения Беньямина, например, в детских воспоминаниях; тем не менее законного, общепризнанного места в современном мире оно лишено.
Более радикальное и специфически пространственное обсуждение миметических возможностей представлено в статье Роже Кайуа «Мимикрия и легендарная психастения» (1935), где французский социолог обращается к способности насекомых уподоблять свой внешний облик окружающей среде так, что они становятся совершенно неотличимы от нее. Если раньше подобная визуальная маскировка понималась как своего рода защитный механизм, то Кайуа приводит доводы в пользу совершенно иной интерпретации. Он определяет данный процесс как «искушение пространством», описывая визуальное уподобление насекомых как желание раствориться в пространстве – фактически стать им [Кайуа 2003: 96]. И желание это отнюдь не ограничено миром насекомых. Кайуа говорит о «физиологических данных» человека, которые приводят к подобным переживаниям растворения в окружающей среде, охватывающим широкий круг практик в искусстве и религиях, таких как пантеизм, а также психическое состояние «легендарной психастении», при котором больные ощущают, будто бы их в прямом смысле пожирает пространство [Там же: 95]. Как пишет Кайуа, «умалишенным пространство представляется некоей пожирающей силой. Оно преследует их, окружает и поглощает как огромный фагоцит, в конце концов вставая на их место. И тогда тело и мысль разобщаются, человек переходит границу своей телесной оболочки и начинает жить по ту сторону своих ощущений» [Там же: 98].
В работах Беньямина и Кайуа формируется концептуальное представление о не ограниченной рамками тела человеческой субъектности, в которой сознание и ощущения выплескиваются в мир других людей, объектов, пространств и устанавливают неразрывные связи и ассоциации. Как описывает это Кайуа, «единожды соприкоснувшись, вещи соединяются навеки» [Там же: 95]. Оба автора извлекают миметические практики из забытых – или уже пройденных – этапов развития человечества как нечто, что может существовать лишь на задворках современных обществ, и стремятся поместить в такой контекст, чтобы они стали основным инструментом критического анализа современности. Сравнивая размышления Беньямина с параллельным им анализом детского когнитивного развития, разработанным Жаном Пиаже, философ Сьюзен Бак-Морс отмечает, что «собственный интерес Беньямина заключался не в последовательном развитии стадий абстрактного, формального мышления, а в том, что было потеряно по пути» [Buck-Morss 1991: 263]. Для Беньямина, утверждает Бак-Морс далее, культивирование миметической способности имело важное политическое значение и представляло собой потенциальный источник для восстановления разрушенных отношений современного человека с миром. Интересно, что, описывая свою поездку в Москву в 1927 году, Беньямин отметил вскользь: «Сразу по прибытии возвращаешься в детство. Ходить по толстому льду, покрывающему эти улицы, надо учиться заново» [Беньямин 1996а: 165]. Другими словами, первые мгновения его знакомства с революционным обществом ощущались как возвращение в детство – возобновление физических и телесных отношений с окружающим миром.
Советские ученые-бихевиористы, особо интересовавшиеся как раз развитием формального рассудка и рассматривавшие взросление детей как процесс восхождения от более низких физиологических функций к более высоким когнитивным, не разделяли, однако, энтузиазма Беньямина. Они концептуализировали стремление к мимесису как способность, которая не исчезает, а, скорее, поглощается более высокими интеллектуальными возможностями, где и остается, требуя постоянного культивирования, – впрочем, совершенно не такого, как представлял его себе Беньямин. В одном весьма характерном обсуждении детского миметического поведения психолог и художественный критик Марк Марков утверждал, что врожденное миметическое желание продолжает функционировать прежде всего в сфере восприятия искусства – являясь фактически его основой, – и что оно эволюционировало из чисто физиологической необходимости осваивать окружающую среду в психологическую и концептуальную способность к художественному переносу и отождествлению. Но в отличие от Беньямина, для которого мимесис был фундаментальным вызовом абстрактным, концептуальным формам рассуждений и знания, Марков видел в нем пользу лишь постольку, поскольку он мог быть использован для этих самых потребностей – и для их проявлений в советской идеологии. Он утверждал, что конечным результатом художественного восприятия является «изменение сознания, а отсюда и поведения воспринимающего» [Марков 1957: 98]. Если миметическое желание никогда полностью не исчезает, то его необходимо культивировать в обратную сторону, перенаправлять в русло надлежащего соблюдения идеологической формы через ограниченные (и предельно аккуратно сформированные) каналы. Рассуждая об этом на страницах, что интересно, «Искусства кино», а потому обращаясь к аудитории, интересующейся кинематографией, Марков пишет о том, что фильм представляет наиболее исчерпывающую форму как раз для такого перенаправления – именно благодаря тому, что он создает место, где физиологическое погружение может функционировать вместе с психологическим переносом, привлекая таким образом миметические возможности зрителей на чувственном уровне, но затем сразу же оказывая действие на уровне концептуальном и идеологическом.