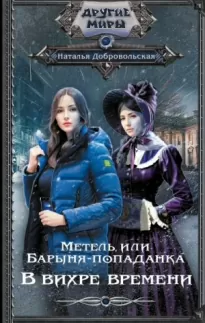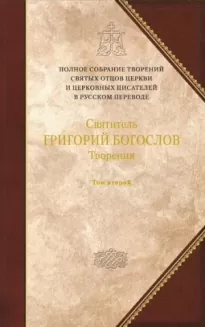История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад
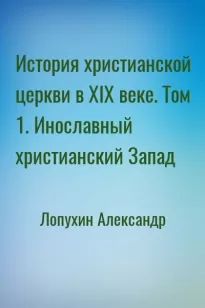
- Автор: Александр Лопухин
- Жанр: Религия и духовность: прочее
Читать книгу "История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад"
3. Папа Пий VII и конкордат с Францией
Тяжелое положение новоизбранного папы. – Необходимость считаться с победоносным французом. – Вопрос о заключении конкордата с Францией. – Религиозные взгляды Бонапарта. – Сомнительные отношения его к исламу. – Религия как орудие политики. – Переговоры о конкордате в Париже. – Личное участие Бонапарта в церковно-религиозных делах. – Конкордат и органические члены. – Принятие конкордата и его значение. – Религиозная реакция во Франции. – «Гений христианства».
Хотя восстановление панства и вступление новоизбранного папы в вечный город встречено было в Риме с большою радостью, однако положение папы было крайне тяжелым. Все дела были до крайности расстроены, народ деморализован и на Тибрском мосту все еще стояла статуя свободы, презрительно попиравшая папскую тиару. Пий VII был одушевлен самым пламенным желанием восстановить порядок и дисциплину в церковном управлении, и в лице Консальви имел гениального помощника: но прежде чем начинать что-либо, он должен был так или иначе установить свои отношения к тому своенравному гению – Наполеону Бонапарту, слава о победах которого уже гремела по всей Европе и который явно обнаруживал свои планы – сделаться верховным повелителем всего мира. Поэтому он решил добиться заключения определенного конкордата с Францией, на основании которого можно бы было стать в определенные отношения к правительству передовой страны в Европе, а затем по его образцу установить отношения и с другими странами. Но это дело оказалось столь трудным, что для осуществления его потребовалась вся гениальная изворотливость такого дипломата, как Консальви, и хотя конкордат был заключен, но по поводу его вскоре возникли такие распри и затруднения, которые вновь повели к самым печальным последствиям для папства. Перипетии вопроса о конкордате с Францией составляют такую интересную картину тогдашнего состояния отношений между церковью и государством, что подробное изложение их составляет необходимую главу в истории папства нашего века.
В то самое, время, как конклав в Венеции восстановил папство и даровал orbi et urbi нового «преемника св. Петра», в Европе быстро следовали одни за другими весьма важные события. Уже прогремевший на всю Европу генерал Бонапарт совершил поход через малый Сен-Бернард и спустился в Италию. За несколько дней перед тем, как папа оставил Венецию, Бонапарт вступил в Милан и прежде чем еще Пий VII достиг Рима, Бонапарт одержал победу при Маренго. Это быстрое победное движение нового Ганнибала устрашило новый Рим не менее, чем некогда победы старого Ганнибала устрашали древний Рим. Вполне уверенное, что Наполеон является представителем того безбожия, которое господствовало в Париже, папство невольно должно было трепетать за свою судьбу. Но оно не знало, что Бонапарт мог взглянуть на религию как на важное политическое орудие и оказать уважение ему как такому. А Наполеон, как умный человек, действительно понимал, каким важным орудием господства могла служить для него религия и воплощенный в папстве авторитет, и потому к немалому удивлению папства сразу обнаружил наклонность не только не вредить папству, а вступить с ним в самый дружелюбный союз. Об этом Наполеон старался дать понять на первых же шагах своих в Италии.
Вступив в Милан, он издал приказ, чтобы в церквах был совершен благодарственный молебен – «в благодарность за освобождение Италии от еретиков и неверующих», – намекая при этом отчасти на ту помощь, которую англичане оказали австрийцам, когда они блокировали гавань Генуя, отчасти на снабжение Венеции жизненными припасами со стороны Турции. 5 июня 1800 года он сам обратился с речью к духовенству города «Я желал», – говорил он, «видеть всех вас собранными, чтобы иметь удовольствие выразить те чувства, которые я питаю в отношении католической, апостольской, римской религии. Я убежден, что эта религия есть единственная, которая может приносить счастье благоустроенному обществу и составлять твердую основу для всякого правительства. Даю вам уверение, что всеми средствами буду стараться защищать и охранять ее. Я смотрю на вас, как на самых дорогих моих друзей. Здесь перед вами я обещаю, что каждый, кто позволит себе хотя малейшее презрение к нашей общей религии, или кто осмелится причинить хотя малейшее оскорбление вашим священным личностям, будет считаться нарушителем общественного спокойствия и врагом общественного блага. Такового я подвергну строжайшему публичному наказанию, и даже, если бы оказалось нужным, смертной казни. Я хочу, чтобы христианская католическая, римская религия сохранялась во всей ее неприкосновенности и чтобы она отправлялась открыто, и чтобы далее она пользовалась столь же полным, столь же широким, столь же безграничным общественным исповеданием, как и в то время, когда в первый раз я посетил эту счастливую страну. У Франции, наученной всеми своими страданиями, наконец, открылись глаза; она признала, что католическая религия есть единственный якорь, который во время треволнений может опять дать ей устойчивость и твердость и спасти ее от бурь: поэтому она опять восстановила у себя эту религию. Я не буду отрицать того, что в этом прекрасном деле я принимал большое участие. Могу только сообщить вам достоверное известие, что теперь во Франции церкви опять открыты: католическая религия там опять получила свой прежний блеск, и народ с благоговением взирает на своих благочестивых священников, которые, исполненные ревности, возвращаются к своим покинутым паствам. Постигшая покойного папу судьба отнюдь не должна внушать вам опасения. Пий VI обязан был теми страданиями, которые постигли его, отчасти интригам своих собственных советников, отчасти жестокой политике Директории. Если я найду случай переговорить с новым папой, то надеюсь, что в состоянии буду устранить все препятствия, которые еще могут стоять на пути к полному примирению Франции с главою церкви». Эта речь отнюдь не предназначалась для одного только духовенства. Она была напечатана, «чтобы не только Италия и Франция, но и вся Европа могла узнать о намерениях первого консула».
Чрез восемь дней после победы при Маренго и перемирия с австрийским генералом Меласом, Бонапарт с большою торжественностью приказал миланскому духовенству освятить победоносные знамена в соборе, «не заботясь о том, что могут подумать атеисты в Париже». В то же время он сделал сообщение Пию VII, что он, как главный начальник французской армии, начнет переговоры касательно устройства церковных дел во Франции. Это сообщение пришло к папе, когда он был еще на пути к Риму, в Терни; но ответ он дал лишь после того, как прибыл в свою резиденцию. Он тотчас же сообщил предложение Бонапарта коллегии кардиналов, и понятно никто не сомневался, как говорит Консальви, «насчет того, что нужно было отвечать на желание, которое направлялось к тому, чтобы вновь упорядочить религиозные дела в стране, где дух революции почти совершенно подавил религиозную жизнь». Для ведения этих переговоров был избран Спина, архиепископ коринфский in partibus. Он сопровождал Пия VII в изгнание и познакомился с Бонапартом со времени его пребывания в Валенсе, где последний остановился на обратном пути из Египта. Задача эта была очень не легкая, и далеко не приятная. По крайней мере, ходили слухи, невольно возбуждавшие сомнение касательно того, насколько первый консул серьезно и искренно относился к церкви и ревновал о поднятии ее влияния. Отнюдь не было тайной, что в 1797 году Бонапарт в Люксембурге открыто причислил религию, царскую власть и дворянство «к предрассудкам, с которыми разделался французский народ». Во всяком случае, он отнюдь не принадлежал к особенно религиозным людям. Его друзья, даже и те, которые сторонились от крайних проявлений революции, были, все-таки, по отношению к религии вполне радикалами. Но сам Бонапарт хотел держаться иного взгляда на религию. Он охотно беседовал с Монжем, Лагранжем и Лапласом о религиозных и философских вопросах и приводил их в смущение возражениями, которые выставлял против их неверия. «Моя религия», говорил он однажды Монжу, «очень проста. Смотря на этот великий, многосоставный, великолепный мировой порядок, я говорю сам себе, что это не могло быть делом случая, а необходимо есть дело неведомого всемогущего Существа, которое столь же высоко стоит над человеком, как творческое здание над прекраснейшими из наших машин». В другой раз он говорил ему: «Мои нервы сочувствуют идее существования Бога». Это такие выражения, которые еще мог употребить вольтерианец, но материалист отнюдь не выразился бы подобным образом. Не разделял Бонапарт и взгляда материалистов на исторические религии. В то время, как напр. известный французский энциклопедист Вольней в своих «Руинах» из большего разнообразия положительных религий делал вывод, что все они основываются на обмане и хитросплетениях, Бонапарт держался совершенно иного взгляда: он видел в различных религиях нечто всеобще религиозное, и это и было «его религией». Он был убежден в истине «религии» вообще; но в положительных религиях находил он только символы и оболочки истинной религии. Религия, впрочем, для него составляла столь же мало дело глубокого чувства или сердца, как и для Вольтера: он приходил к ней лишь с помощью логического вывода. Воспоминания детства, глубоко католическая Корсика и его благочестивая мать, на которую ссылается Тьер в объяснение его отношения к религии, несомненно, мало оставили на нем следа. По он понимал, что религиозные навыки имеют огромное значение для народа, и поэтому он не хотел вводить протестантства во Франции, потому именно, что французский народ «не имеет никаких протестантских воспоминаний»; для себя же считал это неприложимым. У него рассудочная и волевая жизнь брала решительный перевес над сердечною или вообще душевною жизнью, и собственно религиозное чувство в нем было слабо. Правда, он любил колокольный звон, но это чувство не было ни глубоким, ни продолжительным. По отношению к положительным религиям он был, прежде всего, и в конце всего политиком. В его глазах они имели лишь настолько цены, насколько могли оказывать ему помощь к достижению цели, которую он ставил себе и которой занят был его ум. На берегах Нила он преклонялся пред муфтиями и имами; в равнинах северной Италии он оказывал почтение римско-католическому духовенству. Отличительная и своеобразная особенность исламизма состояла для него собственно в странных одеждах, равно как и особенность католицизма он видел только в обрядах. Но его симпатия немедленно прекращалась, как только его владычеству угрожала хоть малейшая опасность. Поэтому он наконец пришел к тому, что идеалом для него сделался своего рода халифат, – сочетание светской власти с духовной, так чтобы во всех отношениях можно было рассчитывать на безусловное ему повиновение. Когда он прибыл в Египет, то приказал своим солдатам, «иметь такое же почтение к муфтиям и имамам, какое они имели бы в Италии к раввинам и епископам». В прокламации от 2 июля 1798 года он говорил жителям Египта: «Мы также истинные мусульмане. Разве мы не сокрушили папу, который говорил, что должно вести войну против магометан»? Мало того, он даже хвалился тем, что «ниспроверг крест» (renversé le croix). А для чего он заводил такую странную речь? Он сам дал нам ключ к уяснению этого. «Отнюдь не невозможно, – говорил он, – что обстоятельства могут заставить меня даже перейти в ислам. – Перемена религии, которая не извинительна просто по личным соображениям, становится, однако допустимой, если она может повлечь за собою большие политические результаты. Прав был Генрих IV, говоря: «Париж стоит мессы». Разве владычество над Востоком, быть может, подчинение Азии, не стоило бы тюрбана и пары туфель»? Таким образом, властолюбие и честолюбие заставляли его льстить исламу. «Это было шарлатанство, однако не обычного свойства», – говорил он сам впоследствии; его побуждала к этому чудовищная мечта об основании восточной монархии. Он особенно живо мечтал об этом, когда находился перед Акрой: горные народы тогда присоединились бы к нему, и арабская часть населения нуждалась бы только в вожде. Если Акра будет в его руках, то у него будет ключ к Дамаску; на западе, тогда Константинополь не окажет ему противодействия, и на востоке перед ним открыто будет лежать Индия. Достаточно будет дневного приказа, думал он, чтобы всех французских солдат превратить в магометан. Позже он еще раз рассуждал о том, как допускаемое исламом многоженство в действительности составляет хорошее средство для искоренения различия между расами, так как оно внутри одного и того же семейства сливает различные расы. И даже в восточном рабстве он умел находить привлекательную сторону, сравнивая его с рабством запада. Ни многоженство, ни рабство – если бы только безусловными господами в последнем сделались французы – нисколько не устрашали французских солдат от ислама. Но встречались другие затруднения. Бонапарт вел по этому предмету близ великой мечети замечательный разговор с арабскими шейхами. «Подайте фетама, который бы приказал народу повиноваться мне», – говорил Бонапарт. «Но почему же вы, ты и твое войско, не делаетесь мусульманами»? – возразил почтенный шейх Сьеркави; «как только будет это, то сотни тысяч поспешат к твоим знаменам. Ты опять восстановить старое царство халифов и будешь повелителем Востока». – «Бог, – возразил на это Бонапарт, – сделал французов не способными к обрезанию;·невозможно для них также и воздерживаться от вина». – «Обрезание не безусловно необходимо, – отвечали шейхи, – но всякий мусульманин, который льет вино, попадет в ад» Бонапарт просил шейхов подумать, нельзя ли сделать какую-нибудь уступку в отношении этого пункта. В ответь на это он получил: «Хорошим мусульманином можно быть и без обрезания, и без воздерживания от вина; но тогда нужно делать добрые дела, особенно подавать милостыню сообразно с количеством выпитого вина». Наполеон сказал на это: «Да, тогда мы будем все вместе хорошими мусульманами и друзьями пророка». Шейхи затем выставили фетама, призывавшего всех правоверных к повиновению и Бонапарт приказал отвести место для огромной мечети (как он позже говорил на острове» св. Елены, «более обширной, чем Джемель-Ашар в Каире»), и заявил при этом, что она должна быть выстроена в память «обращения армии». Этими переговорами он старался выиграть время; однако, предполагавшегося массового «обращения» не состоялось, так как поход в Сирию не удался. Но генерал Мену сделался мусульманином, назвал себя Абдаллахом и женился на египтянке. Делая этот шаг, он приносил известного рода жертву: он думал таким образом посодействовать успеху похода. Прочие генералы не имели никакого желания следовать его примеру, и даже французские солдаты смеялись, когда читали прокламации Бонапарта, которые составлены были восточными поэтами на цветистом языке Востока и в которых говорилось о Бонапарте: «Всесильна рука его, и мед – слова его».