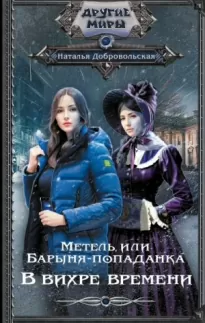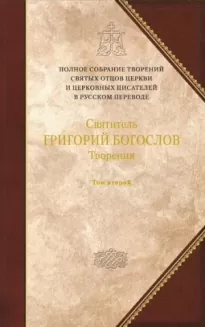История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад
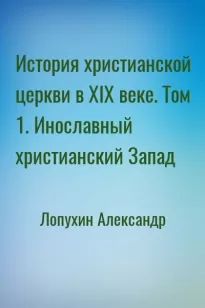
- Автор: Александр Лопухин
- Жанр: Религия и духовность: прочее
Читать книгу "История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад"
Встревожились также и дипломаты. Баварский министр-президент князь Гогенлоэ, брат которого был кардиналом, получив сообщение о том, что затевалось в Риме, издал 9 апреля 1869 года дипломатический циркуляр, в котором делал предложение правительствам составить конференцию, чтобы согласиться касательно общего действия. В то же время он предложил несколько вопросов богословам и юристам мюнхенского университета касательно предметов, которые, по всей вероятности, будут обсуждаться на соборе. Полученные им ответы в большинстве решительно шли в разрез с явными планами папского двора. Другие правительства, однако, не проявили готовности последовать его предложению. Прусское правительство радовалось, что вопрос возбужден именно со стороны римско-католического государства, но полагало, что теперь было бы «не благовременно» принимать предупреждающие меры. В основе этого ответа без сомнения лежало тогда у Пруссии нежелание отталкивать и отчуждать от себя ультрамонтанских католиков в Германии. Австрия, думавшая, что за плечами Гогенлоэ стоит Бисмарк, также отклонила это дело. Небольшим сочувствием предложение Гогенлоэ встречено было и в Бельгии, Голландии, Франции. Швейцарии и, наконец, в Англии. Россия просто запретила своим римско-католическим епископам принимать участие на соборе, а Италия выражала желание, чтобы последовало торжественное заявление о правах, какими государство обладает по отношению к церкви. Итальянское правительство тайно разослало сочинение Януса «всем образованнейшим и влиятельнейшим духовным лицам» в стране.
Утром 2 декабря 1869 года папа имел предварительное собрание в Сикстинской капелле, и после его речи к собравшимся (на латинском, т. е, на традиционном языке курии и собора), все должностные лица собора приняли присягу. В то же время было роздано и папское послание, в котором точнее определялся ход занятий. Согласно с этим посланием, во время собора должны были происходить троякого рода собрания: собрания комиссий, общие собрания (генеральные конгрегации), наконец, публичные собрания. В первых должны были подготовляться постановления, на общих собраниях приниматься, и затем на публичных провозглашаться. Папа не преминул заявить, что право делать предложения собственно принадлежит только ему одному, но что он предоставил и отцам некоторое участие в этих преимуществах. Первая половина заявления папы содержала явное превышение власти. На древних церковных соборах и даже на Тридентском папа отнюдь не имел исключительного права делать предложения. Что на Тридентском соборе было плодом свободного голосования, здесь предлагалось членам в виде папской буллы. Другая половина в смысле уступки не имела никакого значения. Согласно с папским посланием, все предложения со стороны епископов требовалось письменно передавать в одну из назначенных папой комиссий, следовательно, не прямо собору, и Пий удержал за собою право решать, следует ли поступившие предложения подвергать исследованию и обсуждению, или нет. Ватиканский собор, таким образом, отнюдь не был собором свободным. Столь же мало обеспечивало свободу и то обстоятельство, что Пий IX, в противоположность порядку делопроизводства на прежних соборах, делал все, чтобы окутать делопроизводство на соборе строжайшею тайной, – каковая тайна поставлена была в обязанность всем членам собора.
И вот на этот так называемый вселенский собор, получивший название первого Ватиканского, собралось столько князей церкви, сколько их не собиралось еще ни на один из прежних соборов. Когда открылся Тридентский собор, то на нем присутствовало только 4 архиепископа и 21 епископ; при открытии же Ватиканского собора присутствовало 723 члена, и уже вскоре за тем, к половине января, число их возросло до 744. Тут было до 50 кардиналов, 10 патриархов, 130 архиепископов, 522 епископа и 30 генералов орденов28. Среди них 541 были европейцы (и именно более половины из них итальянцы), 113 американцев, 83 азиата, 14 африканцев и 13 австралийцев, и известный ультрамонтанский публицист Луи Вейльо ликовал при мысли, что патриарх вавилонский на пороге Ватикана встретился с епископом чикагским. Некоторые из этих иноземных епископов жили тогда вполне на счет папской казны. Высчитано было, что это гостеприимство стоило папе 2.500 франков ежедневно, так что непогрешимость куплена им была недешево.
Для общих, как и публичных, собраний членов была отведена правая сторона огромного хора в храме св. Петра. При входе был воздвигнут алтарь, а перед ним трибуна для ораторов. По продольным сторонам помещения были места для архиепископов, епископов и аббатов; перед ними сидел ряд орденских генералов, а перед последними находились места для секретаря собора и его помощников. Несколькими ступенями выше находились места патриархов и кардиналов; а против входа, у противоположной стены, воздвигнуть был папский престол, вблизи которого устроено было место для кардинала Антонелли. Над престолом папы видна была картина, изображавшая излияние Св. Духа, а под нею надпись: «Я молился о тебе, да не оскудеет вера твоя». На стенах висело, кроме того, несколько изображений прежних церковных учителей и тех пап, которыми раньше созываемы были вселенские соборы. Когда происходили «публичные собрания», то на них устраивались места и для публики – богословов, певцов, дипломатов, римских принцесс и т д., и тогда входная дверь в помещение оставалась открытою.
Утром 8 декабря пушечные залпы с замка Св. Ангела и звон колоколов возвестили об открытии собора. Блистательная процессия двинулась из парадных помещений Ватикана, с пением молитвы Св. Духу, в храм св. Петра; но сильный ливень не дал возможности, как следует, выполнить предписанного церемониала. Отцы собора прошли чрез храм до назначенных для каждого помещений, и там совершена была торжественная месса, причем секретарь собора принес Библию и положил ее на великолепный аналой. Пред открытием собора архиепископ Пасавалли, капуцин из тридентского диоцеза, выразил приветствие от родины последнего собора, причем сказал проповедь на текст псалма: «Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью; с плачем несущие семена, возвратятся с радостью, неся снопы свои» (Пс. 125:5, 6). После проповеди все епископы собора, один за другим, подходили к папе, преклонялись перед ним и целовали ему колено. Затем сам Пий, в глубоком волнении, произнес речь, которая, наконец, перешла в восторженную молитву к Богородице. Все собрание стало на колена и запело: «Ѵепи Creator»! По мановению папы прочитан был декрет об открытии собора, и епископы выразили свое одобрение литургически возглашенным «Placet». Следующее публичное собрание назначено было на день Богоявления следующего года.
Папа был столь уверен в успехе своей затеи, что он уже заложил основу для памятника в честь этого собора. А между тем повсюду во Франции, Германии и Италии, в этот самый день 8 декабря во многих римско-католических странах происходили демонстрации против собора. При открытии собора оппозиция состояла, главным образом, из четырех князей церкви. Кардинал Шварценберг, архиепископ пражский, привез в Рим сочинение, целью которого было – отсоветовать определение догмата папской непогрешимости, потому что он встретит большие затруднения, даже в среде благочестивейших католиков; с другой стороны, в нем предлагалось дать новую постановку индексу, более благоприятную для свободы и науки, равно как рекомендовалось введение народного богослужения в церкви, подобно тому, как это недавно перед тем было допущено в Венгрии. На стороне Шварценберга стояли орлеанский епископ Дюпанлу, Марёт и парижский архиепископ Дарбуа. О первом из них известный граф Монталамбер писал (1869) между прочим: «Вы, без сомнения, восторгаетесь епископом орлеанским (Дюпанлу); но вы восторгались бы им еще более, если бы могли себе составить представление о той бездне, в которую пало остальное французское духовенство». На Дарбау уже раньше смотрели в Риме неблагосклонно, потому что он, после опубликования силлабуса, в благодушном письме советовал папе держаться меры. Пий написал Дарбуа резкий ответ и не дал ему кардинальской шляпы. «Мне не нужна шляпа; я не простудился», – возразил неустрашимый архиепископ, когда ему сказали о противодействии папы в этом отношении. Это был последний галликанин.
Если принять во внимание, что эти четыре князя церкви, как в Риме, так и в своем ближайшем кругу, должны были бороться с открытым противодействием, то не будет удивительно, что они не имели успеха, хотя они мало-помалу и приобрели себе немало дельных и смелых единомышленников среди прелатов собора. К тому же и сами члены оппозиции были не достаточно решительны: они не осмеливались прямо восставать против идеи непогрешимости, а старались только доказывать, что теперь неблаговременно выступать с вопросом о возведении этой идеи на степень догмата. Но если вопрос шел лишь касательно благоприятности или не благоприятности данного момента, то, очевидно, и нельзя было ожидать иного, как полного торжества Рима. Там издавна было в обычае не стесняться средствами в достижении цели; привыкли склонять на свою сторону то угрозой, то лаской; и то, и другое было вполне применяемо к прелатам. Вот почему мало-помалу Ватиканский собор превратился не более, как в собор льстецов.
10 декабря состоялось «первое общее собрание», и оно не совсем оказалось удачным. Помещение оказалось неудобным в акустическом отношении, так что многие не могли слышать ни слова. Притом у некоторых англичан латинский выговор был столь невозможный, что другие лишь с трудом могли понимать, что они говорили, а многие прелаты и совсем слабоваты были в латыни. Громко заявлялось желание о перенесении собрания в другое место, на что, однако, папа не согласился. Сделано было несколько неважных перемен, которые нисколько не улучшили дела. Предметы, обсуждавшиеся в первых «общих собраниях», именно выборы в комиссии, уже явно показывали, что сторонники догмата непогрешимости были в большинстве и действовали дружно между собой. Конрад Мартин падерборнский, Маннинг, Депиан и другие поборники непогрешимости заранее получили место и голос в догматической комиссии, в которую не назначено было ни одного представителя оппозиции. Всем розданы были литографированные баллотировочные билеты, причем у иных оказались и пустые; у многих не хватало мужества голосовать против желания курии. Епископы Дюпанлу орлеанский и Штроссмайер боснийский, впоследствии один из самых выдающихся членов оппозиции, тщетно старались добиться слова, с целью изменения в ходе дела. Они получили в ответ, что раз установленный папой порядок занятий не может подлежать дальнейшему изменению. Некоторые французские немецкие и австрийские прелаты также обращались к папе с просьбой изменить порядок делопроизводства, но и их просьба оставлена была без удовлетворения.
Предложенные для обсуждения проекты (схемы) также возбуждали много неудовольствия. В первом проекте содержалось предложение – «догматизировать»силлабус, чего так опасались свободомыслящие епископы. Но оппозиция резко высказалась против этого проекта, выдвинутого иезуитами Шрадером и Францелином, так что иезуиты потерпели поражение. Да и вообще первое собрание было для них большим разочарованием. По их плану предполагалось, что архиепископ Маннинг уже с самого начала пригласит членов собора посредством возгласов признать непогрешимость папы, так чтобы это возглашение могло производить впечатление божественного вдохновения. Между тем о таком дружном провозглашении теперь не могло быть и речи. Архиепископ Дарбуа даже, будто бы, заявил, что он и его единомышленники, если состоится нечто подобное, заявят протест и оставят собор. Провозглашение, по плану иезуитов, должно было состояться в день Богоявления, после того, как проповедники, посредством художественных сравнений Младенца в яслях со старцем в замке, приведут всех в надлежащее настроение. Когда все это не удалось, иезуиты придумали новый план и чтобы добиться заявления о единодушном желании мира, начали агитацию в пользу поднесения папе адреса, в котором выражалось желание о скорейшем провозглашении догмата о непогрешимости. На адресе собрано было 400 подписей, – но оппозиция не замедлила и со своей стороны составить и поднести контр-адрес, в котором указывалось на неудобство имевшегося в виду догмата, причем находили его не только излишним, но даже и мало целесообразным. Этот контр-адрес содержал в себе 137 подписей, среди которых была даже подпись майнткого епископа Кеттелера; кроме того, Пию переданы были и еще четыре других адреса, составленных в подобных же выражениях. Последний был достаточно благоразумен, чтобы отклонить все подобные адресы. Поэтому письменные представления и адресы не имели никакого дальнейшего значения, кроме показания силы партий в глазах собора. С этого времени собор превратился в арену борьбы двух противоположных партий, из которых одна старалась так или иначе провести догмат о непогрешимости, а другая старалась расстроить его. Среди вождей оппозиции выдавались кардиналы Раушер венский, князь Шварценберг пражский и Матю безансонский, князь-епископ Ферстер бреславский, архиепископы Шерр мюнхенский, Мельхерс кельнский, Дарбуа парижский, Кенрик сентлуисский, епископы Кеттелер майнцкий, Гефеле роттенбургский, Штроссмайер сирмийский, Дюпанлу орлеанский и др. Все это были самые видные и ученые прелаты римской церкви, с которыми вожди инфаллибилистов не могли идти ни в какое сравнение. Зато на их стороне был папа и всемогущие иезуиты, которые делали все, чтобы провалить оппозицию. При этом они не стеснялись средствами: когда поставлен был вопрос «О вере» (22 марта), то дело дошло до таких запальчивых выходок и безобразий, которые невольно напоминали о пресловутом «разбойничьем соборе». Когда епископ Штроссмайер стал доказывать, что широкое распространение в настоящее время индифферентизма, пантеизма, атеизма и материализма было бы не справедливо исключительно ставить в вину протестантизму, то среди инфаллибилистов раздались оглушительные крики негодования, они затопали ногами и многие с поднятыми кулаками бросились к ораторской трибуне, крича: «Долой еретика», – так что председатель должен был закрыть заседание. Но оппозиция продолжала держаться, и находила поддержку со стороны своих единомышленников, возвышавших ободряющие голоса из разных стран. Во Франции ученый ораторианец Гратри написал письмо против непогрешимости в то самое время, как папа наложил на епископа Дюпанлу молчание касательно раскрытых им историч. подлогов, сделанных архиепископом мехельнским in majorem gloriam sedis apostolicae. В этом и трех других письмах Гратри разъяснял неприятную для папства историю осуждения некоторых пап за ересь. Многие епископы Франции провозгласили смелого ораторианца еретиком: но и зато другие восторженно приветствовали его независимость. Граф Монталамбер послал с своего смертного одра «благодарный и восторженный приветь красноречивому и неустрашимому священнику и великому и высокочтимому епископу орлеанскому». В Германии с открытым письмом выступил Деллингер в «Аугсбургской всеобщей газете»от 21 января 1870 года, и выставлял серьезное возражение, что «в будущем 180.000.000 людей, под угрозой исключения из церкви и таинств, и вечного осуждения, будут принуждены веровать и исповедовать то, во что доселе не веровала и чему не учила церковь». Город Мюнхен дал ему за это право почетного гражданина, и сочувственные адреса он получил также от Браунсберга, Кельна, Бонна, Праги.