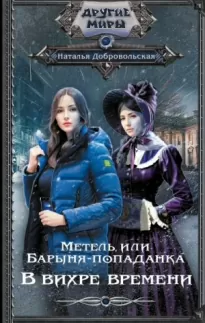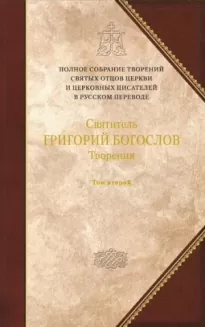История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад
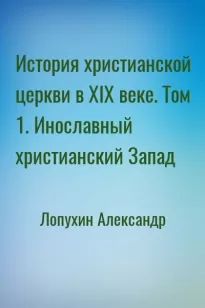
- Автор: Александр Лопухин
- Жанр: Религия и духовность: прочее
Читать книгу "История христианской церкви в XIX веке. Том 1. Инославный христианский Запад"
Опасаясь, как бы противодействие не усилилось и не возросло в грозную общественную силу, иезуиты решили поскорее провести излюбленный догмат. И вот, выдвинут был вопрос о церкви, в котором в 4-члене уже прямо ставился и вопрос о непогрешимости. По этому поводу составлена была обстоятельная «схема», в которой в доказательство папской непогрешимости приведено было изречение Спасителя ап. Петру: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:32); затем понабраны были кое какие места из св. отцов и главным образом делался логический вывод, что папа – наместник Христа и по тому самому должен быть непогрешимым. На основании всего этого составлен был, притом крайне неожиданно для многих, следующий проект постановления: «Посему мы учим с согласия собора и выставляем, как член веры, что римский папа, – если он при исполнении своей должности, как высший учитель всех христиан, в силу своего авторитета определяет, что должна содержать вся церковь в делах веры и нравственности – не может погрешать; и что это преимущество непогрешимости простирается настолько же, насколько простирается и непогрешимость церкви». По поводу этого проекта началась ожесточенная борьба. Сам папа вмешался в нее и открыто говорил, что он «верует в папскую непогрешимость», причем ссылался и на «голос церкви», каковым являлся ряд полученных им из разных частей христианского мира адресов, в которых как духовные, так и миряне, выражали ему свою преданность, вместе с выражением веры в его непогрешимость. Оппозиция однако не унывала. Деллингер, Дюпанлу, Раушер, северо-американский епископ Кенрик и Ньюман выступили с новыми заявлениями, чтобы предотвратить провозглашение нового догмата, а епископ Гефеле исторически доказал, как папа Гонорий I (ум. 658) учил ереси, следовательно, не был непогрешимым. Оппозиция заявила о себе даже в Италии. Миланское духовенство выразило своему епископу публичную благодарность за то, что он противодействовал догмату непогрешимости, и просило его охранять достоинство епископской кафедры св. Амвросия Великого. Но чем сильнее становилась оппозиция, тем настойчивее утверждали иезуиты, согласно со своей своеобразной логикой, что для ниспровержения противодействия необходимо поскорее утвердить догмат. Дебаты по этому вопросу продолжались больше месяца, причем иезуитская партия прибегала к самым странным доводам и подлогам. Так епископ Натоли мессинский предложил ряд сказаний, якобы удостоверяющих истину догмата папской непогрешимости. «Ап. Петр, – говорил он, – как известно, проповедовал в Сицилии, где он уже нашел несколько христиан. Когда он сказал им, что он непогрешим, то христиане, еще не слышавшие ничего об этом члене, несколько усомнились в этом. Они отправили посла к пресвятой Марии с вопросом, слышала ли она что-нибудь о непогрешимости Петра, и она уверила их, что хорошо помнит, как ее Сын предоставил это преимущество Петру; и это свидетельство успокоило сицилийцев». Ярый сторонник инфаллибилизма, епископ мехельнский Дешан, прославившийся своими историческими подлогами, пошел так далеко, что противников догмата называл плохими христианами, не имеющими страха Божия. В том же роде говорил и Маннинг, заявляя, что тем, которые не подчинятся большинству, вскоре после провозглашения догмата предстоит отлучение. Гефеле, Шварценберг и Дарбуа открыто и смело говорили против непогрешимости. На последних заседаниях против нового догмата выступили два сильных оратора: северо-американский архиепископ Конноли галифакский и Штроссмайер. Первый прибыл в Рим приверженцем догмата; но основательное исследование относящихся к нему свидетельств привело его к иному взгляду. Как Писание, так и древнейшее предание свидетельствуют, по его мнению, против непогрешимости. Штроссмайер доказывал, что догмат стоит в противоречии с управлением церкви, с правами епископов и соборов, наконец, с неизменным учением веры. В принятии его он видел опасность – подорвать непогрешимость церкви. На заседании от 6-го июня произвела огромное впечатление сказанная против непогрешимости речь кардинала Гвиди, архиепископа болонского. Он начал с положения, что личная непогрешимость папы, в ее отделении от епископата, неизвестна была церкви до XIV столетия, и даже привел изречения из Перроне и Беллармина, которые прямо противоречат ей. Эта фактическая истина показалась большинству слишком дерзкой."Если бы среди большинства упала бомба, то и она произвела бы менее шума», – говорит очевидец. Отцы собора начали неистово шуметь и наделять Гвиди такими эпитетами, как birbanto (шельма) и brigantine (разбойник). Но он смело продолжал, выдвинул даже Фому Аквината против измышлений новейшего Рима, и закончил предложением, что кто думает, что папа может постановлять Definitio (определение учения) sine consilio, vel sine concilio Ecclosiae (без совета или без собора), – анафема да будет. По этому предложению анафеме мог подвергнуться сам папа, и вследствие этого произошел такой шум, какого и вообразить себе трудно. После обеда в тот же день Пий IX велел позвать к себе кардинала Гвиди, и запальчиво встретил его следующими словами: «Вы мой враг. Вы корифей противников и поэтому человек неблагодарный. Вы провозглашаете еретическое учение». Когда Гвиди отвечал, что в своем мнении он опирается на предание, то папа вскричал: «La tradizione son iо» (предание – это я), – как бы пародируя изречение Людовика XIV, и затем упрекал Гвиди, что он сдружился с Штроссмайером, и говорил так, чтобы «понравиться свету, либералам, революции»...
Между тем приближался последний час собора, и напряжение с обеих сторон дошло до крайности. Видя невыносимое давление со стороны иезуитов и самого папы, французские епископы даже хотели совсем оставить Рим; но более умеренные нашли этот шаг слишком резким, и потому решили ограничиться протестами. 13 июля состоялось заключительное голосование в общем собрании и на нем 371 голосов было утвердительных (Placet), 61 условных (под условием некоторых изменений в декрете) и 88 – отрицательных (Non placet). Это голосование показывало, что иезуиты восторжествовали и чтобы еще резче выразить смысл «непогрешимости» внесли в декрет слова, что решения папы непогрешимы и неизменяемы «но не чрез согласие церкви» Эта прибавка особенно возмутила оппозицию и она решила сделать еще одну отчаянную попытку спасти достоинство церкви и епископат и отправила к папе депутацию, умоляя его смягчить декрет и отменить эту прибавку. При этом епископ Кеттелер даже пал пред папой на колена и заклинал его, чтобы он возвратил церкви и епископату мир и потерянное единение. Пий видимо был тронут, увидев гордого епископа престола св. Бонифация у своих ног, и все члены депутации оставили папу с проблеском надежды. Но узнав об этом, инфаллибилисты немедленно приняли меры к тому, чтобы ослабить произведенное на папу депутацией впечатление, и настолько достигли своей цели, что когда венский кардинал Раушер явился к папе 16 июля с целью и с своей стороны сказать слово в пользу меньшинства, то получил в ответ: «Уже поздно! Формула уже роздана, и назначено заседание для окончательного определения. Нельзя же действовать согласно с меньшинством». Тогда члены оппозиции решили не принимать никакого дальнейшего участия в соборе и в числе 56 прелатов предпочли оставить Рим, сделав письменное заявление, что они как прежде, так и теперь остаются при своем мнении, но из уважения к личности папы не хотят высказывать его в публичном заседании.
16 июля декрет был представлен в окончательной форме, и притом с указанным прибавлением, еще более усиливавшим абсолютную власть папства, а на 18-е июля назначено было четвертое и последнее публичное заседание собора. Ввиду того, что главные члены оппозиции окончательно устранились от участия па соборе, иезуиты могли вполне торжествовать победу. День был весьма сумрачный, но у них весело было на душе. По обычаю, заседанию предшествовало совершение мессы, и затем один епископ с кафедры громко и ясно прочитал злополучный декрет, в котором говорилось29, что «римский папа, когда он говорит ex cathedra, т. е., всякий раз, когда он в исполнении своей должности, как пастырь и учитель всех христиан, в силу своего высочайшего апостольского полномочия, утверждает касающиеся веры и нравственности учения, как подлежащие принятию всею церковью, то с божественной помощью, обещанной ему в лице св. Петра, он обладает тою непогрешимостью, которою Божественный Искупитель благоволил наделить Свою церковь на все случаи при утверждении учения о вере и нравственности, и что поэтому такие определения папы сами по себе, а не чрез согласие церкви, суть непреложны. Если бы кто-нибудь, чего Боже сохрани, дерзнул противоречить этому нашему постановлению, анафема да будет»! После прочтения декрета последовало голосование, и оно происходило при громе и молнии, при такой грозе, какая редко бывает в Риме. Верующие паписты увидели в этом высший голос осуждения галликанизму, а другие даже усмотрели в этом высшее знамение, в силу которого папа возводился на одинаковую высоту с Моисеем получившем законодательство на Синае при таких же грозных явлениях природы. Из присутствующих прелатов 533 сказали Placet, и только двое, именно северо-американский епископ Фитцгеральд и сицилийский епископ Риччио сказали «non placet». На этом последнем заседании, следовательно, в пользу догмата высказывалось гораздо больше, чем на заседании 13 июля. Откуда явился этот прирост? Изменилось ли за это время убеждение нескольких епископов, или они просто преклонились пред авторитетом? Даже Гвиди сказал «placet». Рассказывали, что папа во время голосования строго смотрел ему в глаза и, когда услышал от него «placet», громко сказал: «Buon uomo!»30 или по другим: «Pover uomo!»31. Последнее выражение было, конечно, более применимо к нему, как и к другим слабым прелатам. Когда счетчики голосов сообщили папе результат голосования, то он немедленно утвердил декрет и произнес краткую речь. В ней он высказал надежду, что те, которые голосовали против декрета, придут к лучшему убеждению. Намекая на 3Цар. 19:2, он указал на то обстоятельство, что отцы собора произнесли свой приговор «в буре», и напомнил им о том, что за несколько лет пред тем они произнесли другой приговор, но тогда «при веянии тихого ветра». Монахи и монахини, которые вместе с толпой зуавов составляли главную часть собрания, кричали «браво»! и аплодировали. Население Рима, по-видимому, лишь мало принимало участия в этом торжестве, да и вообще мало понимало во всем этом деле. Дипломаты также по большей части блистали своим отсутствием: присутствовали лишь министры Бельгии, Голландии, Португалии и некоторых южноамериканских государств. Устроенная вечером иллюминация оказалась очень жалкой, вследствие дурной погоды. Только льстецы папы ликовали и старались раздувать торжество, не останавливаясь перед кощунством. Один священник из северной Италии прославлял в стихотворении, касавшемся событий дня, голос папы, как «голос Бога, а не человека». За то многие епископы далеко не были в хорошем настроении. Совесть в них проснулась и они, устрашившись за совершенное ими дело, чувствовали невыразимую тоску на душе.