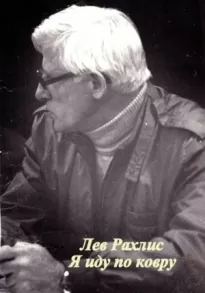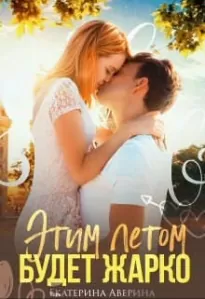Империй. Люструм. Диктатор

- Автор: Роберт Харрис
- Жанр: Историческая проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Империй. Люструм. Диктатор"
Наше положение было в высшей степени отвратительным, — без сомнения, именно это и входило в намерения Цезаря, создателя и покровителя Клодия.
На то, чтобы пересечь горы, ушло две недели нелегкого пути — часто под проливным дождем и большей частью по плохим дорогам. Казалось, каждая миля грозила засадой, хотя убогие городишки, через которые мы проезжали, были довольно гостеприимными. Мы ночевали на дымных выстуженных постоялых дворах и обедали черствым хлебом и жирным мясом, которые едва ли становились более сносными от кислого вина.
Цицероном попеременно овладевали ярость и отчаяние. Теперь он ясно видел, что совершил ужасную ошибку, покинув Рим. Было безумием бросить город и дать Клодию без помех распространять клеветнические измышления, будто он, Цицерон, предавал граждан смерти «без суда и приговора», тогда как на самом деле каждому из пяти главных участников заговора Катилины позволили высказаться в свою защиту и их казнь одобрили все сенаторы. Но бегство было равносильно признанию вины. Ему следовало бы послушаться своего чутья и вернуться, когда он услышал трубы отбывающего Цезаря и впервые осознал свою ошибку. Цицерон оплакивал свою глупость и робость, которые навлекли беду на его жену и детей.
Покончив с самобичеванием, он обратил свой гнев против Гортензия и «остальной аристократической шайки», которая никогда не могла ему простить, что он, несмотря на скромное происхождение, сумел возвыситься и спас республику. Они намеренно подстрекали Цицерона к бегству, чтобы уничтожить его, и ему следовало бы вспомнить о Сократе, изрекшем: «лучше смерть, чем изгнание».
Да, он должен покончить с собой, заявил он однажды и схватил нож с обеденного стола. Он убьет себя!
Я ничего не сказал, так как не отнесся всерьез к этой угрозе. Мой хозяин не выносил вида чужой крови, не говоря уже о своей собственной. Всю жизнь он старался избегать военных походов, игр, публичных казней, похорон — всего, что могло напомнить о смерти. Боль пугала его, а смерть ужасала (хотя я никогда не набрался бы дерзости, чтобы указать ему на это), и это послужило главной причиной нашего бегства из Рима.
Когда мы наконец оказались в виду укрепленных стен Брундизия, Цицерон решил не рисковать и не входить в город. Именно этот порт, большой и оживленный, со множеством чужестранцев, где он неизбежно окажется, — лучшее место, чтобы убить его. Поэтому мы нашли убежище неподалеку от города, на побережье, у Марка Ления Флакка, старого друга Цицерона. Той ночью мы впервые за три недели спали в хороших постелях, а на следующее утро зашагали вдоль берега.
Море здесь было намного более бурным, чем на сицилийской стороне. Сильный ветер без устали швырял волны Адриатики на скалы и прибрежную гальку. Цицерон ненавидел морские путешествия даже в лучшие времена, а это плавание обещало быть особенно коварным. Однако то был единственный путь к спасению. В ста двадцати милях за горизонтом лежал берег Иллирика.
Заметив выражение лица Цицерона, Флакк сказал:
— Не падай духом, Цицерон, — может быть, закон не будет принят или один из трибунов наложит вето. Должен же оставаться в Риме кто-нибудь, готовый встать на твою сторону… Помпей уж наверняка поддержит?
Но тот, неотрывно глядя на море, не ответил.
А несколько дней спустя мы услышали, что закон принят, следовательно, Флакк совершил тяжкое преступление, приняв у себя осужденного на изгнание.
И все равно он уговаривал нас не уезжать, настаивал, что ему самому Клодий не страшен. Но Цицерон не стал слушать:
— Твоя верность трогает меня, старый друг, но, как только закон будет принят, это чудовище отправит в погоню за мной своих наемников. Нельзя терять время.
Я нашел в гавани Брундизия торговое судно, хозяин которого нуждался в деньгах и за огромное вознаграждение готов был рискнуть пуститься зимой через Адриатику. На следующее утро, с первыми лучами солнца, когда вокруг не было ни души, мы поднялись на борт корабля.
Крепкий, пузатый корабль примерно с двадцатью моряками раньше ходил между Италией и Диррахием. Я мало что понимаю в подобного рода вещах, но судно показалось мне достаточно надежным. По расчетам хозяина, путешествие должно было занять полтора дня. Но нам нужно быстро отплыть, сказал он, и воспользоваться благоприятным ветром.
Итак, пока моряки делали необходимые приготовления, а Флакк ждал на пристани, Цицерон быстро продиктовал последнее послание жене и детям: «Я жил, процветал; погубило меня мое мужество, а не моя порочность. Моя Теренция, преданнейшая и лучшая жена, моя нежно любимая дочка и ты, Марк, моя единственная надежда, прощайте»[80].
Я переписал письмо и передал его Флакку. Тот поднял руку в прощальном приветствии. А потом матросы развернули парус и отдали концы, гребцы повлекли нас прочь от мола, и мы двинулись в бледно-серый свет.
Сперва мы шли довольно быстро. Цицерон стоял на рулевой площадке высоко над палубой, прислонившись к поручню и наблюдая, как огромный маяк Брундизия за нами становится все меньше. Если не считать поездок на Сицилию, он впервые со времен юности — когда отправился на Родос, чтобы учиться ораторскому искусству у Молона, — покинул Италию.
Из тех, кого я знал, Цицерон по внутреннему складу меньше всего был подготовлен к изгнанию. Для полноценной жизни ему требовалось все, что присуще просвещенному обществу: друзья, новости, всевозможные слухи и беседы, государственные дела, обеды, игры, бани, книги, прекрасные здания… Наверное, для него было сущей му́кой наблюдать, как все это исчезает из его жизни.
Но не прошло и часа, как все это и впрямь исчезло, поглощенное пустотой. Ветер быстро гнал нас вперед, и, пока судно резало барашки волн, я думал о гомеровской «синей волне, пенящейся у носа». Но потом, в середине утра, судно как будто начало умерять свой бег. Огромный коричневый парус обвис, и двое рулевых, стоявших слева и справа от нас, принялись тревожно переглядываться. Вскоре у горизонта стали собираться плотные черные тучи; не прошло и часа, как они сомкнулись и нависли над нашими головами, точно захлопнувшаяся крышка подпола.
Потемнело и похолодало. Снова поднялся ветер, но на сей раз он дул нам в лицо, отрывая от поверхности волн холодные брызги и швыряя их. По палубе, которая опускалась и поднималась, забарабанил град.
Цицерон содрогнулся, наклонился вперед, и его вырвало. Лицо его было серым, как у трупа. Обхватив хозяина за плечи, я знаком показал, что нам следует спуститься на нижнюю палубу и найти убежище в каюте. Мы добрались до середины трапа, когда полумрак распорола молния, и тут же последовал оглушительный, отвратительный треск, будто надломилась кость или расщепилось дерево. Я был уверен, что мы лишились мачты: казалось, корабль внезапно потерял равновесие, и нас швырнуло вперед, потом еще раз и еще, пока вокруг не остались лишь блестящие черные горы, вздымавшиеся и рушившиеся в свете молний. Из-за пронзительного воя ветра невозможно было ни говорить, ни слышать. В конце концов я просто втолкнул Цицерона в каюту, ввалился туда вслед за ним и закрыл дверь.
Мы пытались стоять, но судно кренилось. Воды было по щиколотку, и мы постоянно поскальзывались. Пол наклонялся то в одну, то в другую сторону. Мы цеплялись за стены, а нас швыряло взад и вперед среди разбросанной в темноте утвари, кувшинов с вином и мешков с ячменем, как бессловесных животных в клетке по дороге на убой.
Наконец мы забились в угол и лежали там, промокнув насквозь и дрожа, пока судно переваливалось с бока на бок и с носа на корму. Уверенный в том, что мы обречены, я с закрытыми глазами молился Нептуну и прочим богам об избавлении.
Прошло много времени. Сколько именно, не могу сказать — наверняка остаток того дня, вся ночь и часть следующего дня. Цицерон, похоже, ничего не сознавал, и я несколько раз касался его холодной щеки, убеждаясь, что он еще жив. При каждом прикосновении его веки на мгновение поднимались, а потом опускались.
Как признался Цицерон позже, он полностью смирился с тем, что утонет, а морская болезнь причиняла ему такие страдания, что страха не чувствовалось. Он понимал лишь, что бесконечно милосердная природа лишает умирающих ужаса перед небытием и заставляет смерть казаться желанным избавлением. Едва ли не величайшим удивлением в его жизни, сказал он, было очнуться на второй день и понять, что буря стихла и он, Цицерон, все-таки продолжит существовать.
— К несчастью, положение мое столь прискорбно, что я почти сожалею об этом, — добавил он.
Убедившись, что непогода прошла, мы вернулись на палубу. Моряки как раз сбрасывали за борт тело какого-то бедолаги, которому размозжило голову повернувшейся балкой. Адриатика была маслянисто-гладкой и неподвижной, того же серого оттенка, что и небо, и тело соскользнуло в воду с едва слышным плеском. Холодный ветер нес запах, которого я не узнавал, — вонь гнили и разложения.
Примерно в миле от нас я заметил отвесную черную скалу, вздымавшуюся над прибоем. Я решил, что ветер загнал нас обратно и что это, должно быть, берег Италии. Но капитан посмеялся над моим невежеством и объяснил, что перед нами Иллирик и знаменитые утесы, охраняющие подступы к древнему городу Диррахию.
Цицерон сперва намеревался направиться в Эпир, гористую южную страну, где Аттику принадлежали огромные владения, включавшие в себя укрепленную деревню. То был пустынный край, так и не оправившийся после ужасного удара, нанесенного ему сенатом веком раньше, когда в наказание за борьбу против Рима все семьдесят городов Эпира были одновременно разрушены до основания, а все сто пятьдесят тысяч жителей проданы в рабство. Тем не менее Цицерон заявил, что не возражал бы против уединенной жизни в этих зловещих местах. Но как раз перед тем, как мы покинули Италию, Аттик предупредил — «с сожалением», — что Цицерон сможет остаться там лишь на месяц, дабы не разнеслась весть о его присутствии. Ведь если бы об этом стало известно, то согласно второй статье закона Клодия самому Аттику грозил бы смертный приговор за укрывательство изгнанника.
Даже ступив на берег близ Диррахия, Цицерон все еще раздумывал, куда двинуться: на юг, в Эпир, даже притом что он стал бы лишь временным убежищем, или на восток, в Македонию (тамошний наместник Апулей Сатурнин был его старым другом), а из Македонии — в Грецию, в Афины.
В итоге решение было принято за него. На пристани ожидал посланник — очень встревоженный молодой человек. Оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что за ним не наблюдают, он быстро потащил нас в заброшенный склад и предъявил письмо от Сатурнина. Этого письма у меня не сохранилось — Цицерон схватил его и разорвал на клочки, как только я прочел послание вслух. Но я до сих пор помню, о чем там говорилось. Сатурнин писал «с сожалением» — опять те же слова! — что, невзирая на годы дружбы, не сможет принять Цицерона в своем доме, поскольку «оказание помощи осужденному изгнаннику несовместимо с достоинством римского наместника».
Голодный, вымокший и измученный после плавания через пролив Цицерон швырнул обрывки письма на пол, сел на тюк ткани и опустил голову на руки. И тут посланец беспокойно сказал: