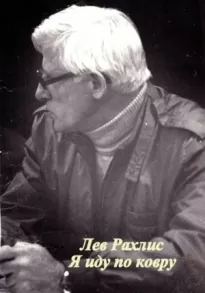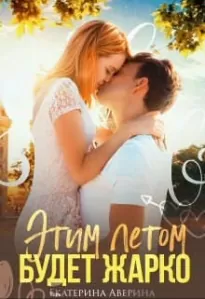Империй. Люструм. Диктатор

- Автор: Роберт Харрис
- Жанр: Историческая проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Империй. Люструм. Диктатор"
IX
У меня нет намерения подробно описывать пребывание Цицерона в должности наместника Киликии. Уверен, история сочтет это маловажным в сравнении с остальными событиями, а сам Цицерон считал это маловажным уже тогда.
Мы добрались до Афин весной и остановились на десять дней у Ариста, главного преподавателя Академии. В то время он считался самым великим из живущих на свете последователей философии Эпикура. Как и Аттик, другой истый эпикуреец, Арист указывал, что делает человека счастливым: здоровая пища, умеренные упражнения, приятное общество, близкие по духу спутники и отсутствие всякого беспокойства. Цицерон, считавший своим божеством Платона и живший в постоянном беспокойстве, оспаривал эти утверждения. Он считал, что учение Эпикура — своего рода антифилософия.
— Ты говоришь, что счастье зависит от телесного благополучия, — говорил он Аристу. — Но мы не можем рассчитывать на него постоянно. Если человек страдает от мучительной болезни или его пытают, он, согласно твоей философии, не может быть счастлив.
— Возможно, он не будет в высшей степени счастлив, — допустил Арист, — но счастье все же будет присутствовать в его жизни в том или ином виде.
— Нет-нет, он вообще не сможет быть счастлив, — настаивал Цицерон, — потому что его счастье полностью зависит от телесных вещей. А между тем, если взять всю историю философии, самой чудесной и плодотворной выглядит простая максима: «Прекрасно одно лишь нравственно-прекрасное». Основываясь на этом, можно доказать, что «нравственно-прекрасного достаточно для счастливой жизни». А из этого вытекает третья максима: «Нравственно-прекрасное является единственным благом».
— Ах, но если я стану тебя пытать, — с многозначительным смехом возразил Арист, — ты будешь точно так же несчастлив, как я!
Однако Цицерон был совершенно серьезен:
— Нет-нет, потому что, если я буду держаться нравственно-прекрасного — между прочим, я не заявляю, что это легко или что я достиг этого, — я непременно останусь счастливым, как бы ни была сильна моя боль. Даже когда мой мучитель отступит в изнеможении, останется нечто превыше телесного, чего он не сможет затронуть…
Естественно, я упрощаю долгий и непростой спор, который длился несколько дней, пока мы осматривали афинские здания и памятники старины. Но именно к этому сводился словесный поединок двух ученых мужей, и с тех пор Цицерон начал думать о создании философской работы, которая стала бы не набором высокопарных отвлеченностей, а руководством к достижению хорошей жизни.
Из Афин мы поплыли вдоль берега, а потом — по Эгейскому морю, от острова к острову, в составе флота из двенадцати судов. Родосские корабли были большими, громоздкими и медлительными. Они качались даже при умеренном волнении и были открыты всем стихиям. Я помню, как дрожал в ливень, когда мы проходили мимо Делоса, печальной скалы, где, говорят, за один-единственный день продают до десяти тысяч рабов.
Отовсюду стекались огромные толпы, чтобы увидеть Цицерона: среди римлян только Помпей, Цезарь да еще, пожалуй, Катон превосходили его известностью. В Эфесе нашему отряду из легатов, квесторов, ликторов и военных трибунов с их рабами и поклажей дали запряженные быками повозки и табун мулов, и мы отправились по пыльным горным дорогам в глубинные области Малой Азии.
Спустя полных двадцать два дня после отъезда из Италии мы добрались до Лаодикеи — первого города в провинции Киликия, — где Цицерону пришлось немедленно начать разбор судебных дел.
Бедные и изможденные простолюдины, бесконечные очереди из шаркающих просителей в мрачной базилике и на ослепительном белокаменном форуме, постоянные стоны и жалобы насчет таможенников и подушных податей, мелкое мздоимство, мухи, жара, дизентерия, острая вонь от козьего и овечьего помета, вечно висевшая в воздухе, горькое вино и еда, обильно приправленная маслом и пряностями… Небольшой город, ничего прекрасного, на чем можно было бы остановить взор, утонченного, что можно было бы послушать, вкусного, что можно было бы поесть, — о, как тяжко было Цицерону застрять в подобном месте, в то время как судьбы мира решались без него в Италии! Едва я успел распаковать свои чернила и стилусы, как он уже диктовал письма всем, кого только мог припомнить в Риме, умоляя похлопотать, чтобы срок его пребывания в Киликии сократили до года.
Через несколько дней явился гонец от Гая Кассия Лонгина: сын парфянского царя вторгся в Сирию с такими большими силами, что Кассию пришлось отозвать свои легионы, дабы укрепить Антиохию. Это означало, что Цицерону следует немедленно приехать в расположение собственного войска, к подножию Таврских гор — громадной естественной преграды, отделяющей Киликию от Сирии. Квинт был очень взбудоражен, и в течение месяца казалось вполне возможным, что его старшему брату придется руководить защитой всего востока империи. Но потом от Кассия пришло новое сообщение: парфяне отступили перед неприступными стенами Антиохии, а он преследовал и разбил их, сын царя погиб, опасность миновала.
Не знаю, что почувствовал Цицерон — облегчение или разочарование. Однако он все-таки сумел поучаствовать в своего рода войне. Некоторые местные племена воспользовались столкновением с парфянами, чтобы взбунтоваться против римского правления. Силы бунтовщиков были сосредоточены преимущественно в крепости под названием Пиндессий, и Цицерон осадил ее.
Два месяца мы жили в горах, в военном лагере, и Квинт был счастлив, как школьник, возводя скаты и башни, копая рвы и пуская в ход метательные орудия. Я считал все это предприятие отвратительным — как и Цицерон, полагаю, — потому что у бунтовщиков не было никакой надежды. День за днем мы обстреливали город стрелами и пылающими метательными снарядами; наконец он сдался, и наши легионеры хлынули в него, предавшись грабежу. Квинт казнил главарей мятежников, остальных же заковали в цепи и отвели на побережье, чтобы их доставили на судах на Делос и продали в рабство. Цицерон мрачно смотрел, как они уходят.
— Полагаю, если бы я был великим полководцем, как Цезарь, то отрубил бы всем им руки, — сказал он негромко. — Разве не так приносят мир этим людям? Но не могу сказать, что я получал большое удовлетворение, используя все средства, придуманные высокоразвитым народом, чтобы повергнуть в прах несколько варварских хижин.
И все-таки люди Цицерона приветствовали его на поле как императора. Впоследствии он заставил меня написать шестьсот писем — именно так, каждому сенатору, — требуя, чтобы его вознаградили триумфом. Я совершенно изнемог от этой работы, которую пришлось выполнить в жалкой обстановке военного лагеря.
На зиму Цицерон отдал войско под начало Квинта и вернулся в Лаодикею. Он был немало потрясен тем наслаждением, с каким его брат подавил бунт, а также бесцеремонным обращением Квинта с подчиненными («раздражительным, грубым, пренебрежительным», как он впоследствии писал Аттику). Ему не слишком нравился и племянник — «мальчишка с огромным самомнением». Квинт-младший любил давать всем понять, кто он такой, — одно его имя говорило об этом! — и обращался с местными жителями крайне презрительно. И все-таки Цицерон старался вести себя как любящий дядя и весной, на Либералиях[105], в отсутствие отца мальчика руководил церемонией, на которой юный Квинт стал мужчиной. Цицерон сам помог ему сбрить чахлую бородку и облачиться в первую тогу.
Что же касается его собственного сына, то юный Марк давал поводы для иных тревог. Приветливый, любивший телесные упражнения, во всем остальном он был ленивым, а когда речь заходила об уроках — не слишком сообразительным. Вместо того чтобы изучать греческий и латынь, он предпочитал слоняться среди центурионов, биться на мечах и метать дротики.
— Я очень его люблю, — сказал мне Цицерон, — и он, безусловно, добросердечен, но временами я недоумеваю, откуда, во имя неба, он взялся: я не вижу в нем никакого сходства со мной.
Этим его семейные неприятности не исчерпывались. Он предоставил Теренции и самой Туллии искать нового мужа для дочери, дав понять, что предпочитает надежного, достойного, уважаемого молодого аристократа вроде Тиберия Нерона или Сервия Сульпиция, сына его старого друга. Однако женщинам приглянулся Публий Корнелий Долабелла — самый неподходящий жених, с точки зрения Цицерона. Худой как щепка, он пользовался дурной славой. Ему было всего девятнадцать — на семь лет меньше, чем Туллии, — но, как ни удивительно, он успел уже дважды жениться на женщинах куда старше себя.
К тому времени, как письмо с извещением о выборе жениха дошло до Цицерона, вмешиваться было поздно: свадьба состоялась бы раньше, чем его ответ прибыл бы в Рим, о чем женщины наверняка знали.
— Что поделать? — со вздохом сказал он мне. — Такова жизнь — пусть боги благословят то, что совершилось. Я могу понять, зачем это нужно Туллии; без сомнения, он красив и очарователен, и если кто-нибудь заслуживает наконец-то вкусить радости жизни, так это она. Но Теренция! О чем она думает? Словно она сама чуть ли не влюбилась в этого парня. Не уверен, что понимаю ее…
Я перехожу к главному беспокойству Цицерона: с Теренцией что-то было не так. Недавно он получил укоризненное письмо от изгнанника Милона, желавшего знать, что случилось с его имуществом, которое Цицерон задешево купил на торгах: его жена Фавста не получила ни гроша. Одновременно посредник, действовавший от имени Цицерона — Филотим, управляющий Теренции, — все еще надеялся, что тот одобрит некоторые его сомнительные предложения по добыванию денег, и навестил наместника в Лаодикее.
Цицерон принял Филотима в моем присутствии и сказал, что об участии его или кого-нибудь из его подчиненных в сомнительных сделках не может быть и речи.
— Поэтому не трудись говорить об этом. Лучше расскажи, что сталось с имуществом, отобранным у Милона, — велел он управляющему. — Ты помнишь, что распродажа была устроена с тем, чтобы ты получил все за бесценок, а потом продал и отдал выручку Фавсте?
Филотим, пухлый как никогда и уже истекавший потом на летней жаре, раскраснелся еще сильнее и, запинаясь, начал говорить, что не может припомнить все подробности: это было больше года назад. Он должен свериться со своими счетами, а счета остались в Риме.
Цицерон воздел руки:
— Брось, приятель, ты должен помнить! Это было не так уж давно. Мы говорим о десятках тысяч. Что стало с ними?
Но его собеседник твердил одно и то же: ему очень жаль, он не может припомнить, надо проверить.
— Я начинаю думать, что ты прикарманил деньги, — заявил Цицерон.
Но Филотим все отрицал.
Внезапно Цицерон спросил:
— Моя жена об этом знает?
При упоминании о Теренции ее управляющий чудесным образом преобразился. Он перестал ежиться, намертво замолчал и, сколько Цицерон ни нажимал на него, отказывался произнести хоть слово. В конце концов Цицерон велел ему убираться с глаз долой. После того как Филотим ушел, он сказал мне:
— Видел, какая дерзость? Как он защищает честь госпожи! Он будто считал, что я недостоин произнести имя собственной жены.