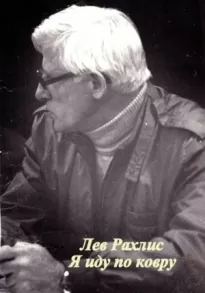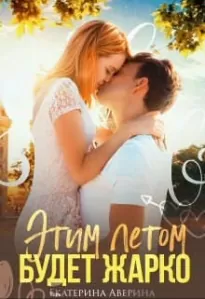Империй. Люструм. Диктатор

- Автор: Роберт Харрис
- Жанр: Историческая проза
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Империй. Люструм. Диктатор"
Я согласился, что это просто удивительно.
— «Удивительно» — самое верное слово, — мрачно проворчал Цицерон. — Они всегда были близки, но с тех пор, как я отправился в изгнание…
Он покачал головой и не договорил до конца. Я ничего не ответил: любое замечание прозвучало бы неприлично. До сего дня я не знаю, справедливы ли были подозрения Цицерона. Могу сказать лишь, что его глубоко возмутила эта история и он немедленно написал Аттику, прося провести тайное расследование: «Я, право, боюсь многого, о чем не осмеливаюсь писать»[106].
За месяц до окончания своих наместнических полномочий Цицерон в сопровождении ликторов отправился обратно в Рим, взяв с собой меня и сына с племянником и оставив провинцию на своего квестора.
Он знал, что может столкнуться с осуждением за то, что преждевременно оставил свои обязанности и вверил Киликию человеку, который был сенатором первый год, но рассудил так: поскольку правление Цезаря в Галлии вот-вот закончится, у большинства людей на уме будут дела посерьезней. Наш путь лежал через Родос, который Цицерон хотел показать Квинту и Марку. Еще он желал посетить гробницу Аполлония Молона, великого наставника в ораторском искусстве, чьи уроки почти тридцать лет тому назад позволили Цицерону начать восхождение к высшим должностям. Гробница стояла на мысу, вдающемся в Карпатосский пролив. На простом белом мраморе было высечено имя оратора, а ниже, на греческом, — одно из его любимых наставлений: «Ничто не высыхает быстрее слезы». Цицерон долго стоял, глядя на камень.
К несчастью, путешествие на Родос надолго отдалило наше возвращение в Рим. Тем летом ежегодные ветра были необычайно сильными — они дули с севера день за днем, и наши суда на три недели оказались заперты в гавани. За это время положение в Риме резко ухудшилось, и, когда мы добрались до Эфеса, Цицерона уже ожидал целый ворох тревожных новостей.
«Чем ближе борьба, — писал Руф, — тем яснее вырисовывается опасность. Помпей полон решимости не допустить, чтобы Цезаря избрали консулом, если тот не отдаст свое войско и свои провинции; Цезарь же убежден, что ему не жить без войска. Итак, их нежности, их устрашающий союз закончился не тайной враждебностью, а открытой войной!»
Спустя неделю в Афинах Цицерон нашел другие письма, включая послания от Помпея и от Цезаря, — каждый жаловался на другого и взывал к верности Цицерона.
«Если спросишь меня, он либо может быть консулом, либо сохранить свои легионы, — писал Помпей, — но нельзя делать то и другое сразу. Полагаю, ты согласен с моим образом действий и будешь решительно поддерживать меня и сенат, как делал всегда».
Цезарь смотрел на вещи иначе: «Боюсь, благородство Помпея не дает ему разглядеть истинные намерения тех, кто всегда желал мне зла. Я полагаюсь на тебя, дорогой Цицерон, — надеюсь, ты скажешь им, что я не могу остаться без защиты, не должен лишиться ее и не допущу этого».
Эти два письма вызвали у Цицерона острую тревогу. Он сидел в библиотеке Ариста, положив оба послания перед собой, и переводил взгляд с одного на другое. «Ведь я, мне кажется, предвижу такую великую схватку, какой не было никогда, — писал он Аттику. — Теперь нам угрожает сильнейшая распря между ними. Меня же и тот и другой считает своим. Они приложат старания, чтобы вытянуть мое мнение. В этом месте ты, быть может, посмеешься. Как бы мне хотелось и поныне оставаться в провинции!»[107]
Той ночью я лежал, дрожа и стуча зубами, несмотря на афинскую жару, и мне чудилось, что Цицерон все еще диктует мне письмо, по одной копии которого следовало отправить и Помпею, и Цезарю, заверяя их в своей поддержке. Но слова, которые доставили бы удовольствие одному из них, взбесили бы другого, и я проводил час за часом, судорожно пытаясь сочинить совершенно беспристрастные предложения. Всякий раз, когда я думал, что мне это удалось, слова рассыпа́лись в моей голове, и приходилось начинать все заново. Это было полное безумие, но одновременно казалось, что так оно и есть на самом деле… Утром мой разум ненадолго прояснился, и я понял, что вновь стал жертвой лихорадки, сразившей меня в Арпине.
В тот день мы должны были отплыть в Коринф. Я очень старался вести себя так, будто все хорошо, но, наверное, все равно был мертвенно-бледным, с запавшими глазами. Цицерон уговаривал меня поесть, но пища не удержалась в моем желудке, и, хотя мне удалось взойти на борт без посторонней помощи, днем я почти лишился сознания, а когда вечером мы высадились в Коринфе, меня пришлось снести с корабля и уложить в постель.
Встал вопрос: что делать со мной? Я вовсе не хотел, чтобы меня оставляли, и Цицерон тоже не желал бросать меня. Но ему нужно было вернуться в Рим и там, во-первых, сделать то немногое, что было в его власти, для предотвращения надвигавшейся гражданской войны, а во-вторых, путем негласных переговоров с сенаторами попытаться добиться триумфа, на который он все еще питал слабую надежду, вопреки всему. Он не мог позволить себе терять дни в Греции, ожидая, пока поправится его письмоводитель. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был остаться в Коринфе. Но вместо этого мы рискнули, решив, что у меня хватит сил выдержать двухдневное путешествие до Патр, где будет ждать корабль, который доставит нас в Италию. Это было глупо. Меня завернули в одеяла, положили в заднюю часть повозки, и мы двинулись по побережью. Поездка была ужасной. Когда мы добрались до Патр, я умолял, чтобы остальные отправились дальше без меня: после долгого морского перехода я, несомненно, расстался бы с жизнью. Цицерон по-прежнему не хотел так поступать, но в конце концов согласился. Меня уложили в постель на стоявшей неподалеку от гавани вилле греческого торговца Лисона. Цицерон, Марк и юный Квинт пришли к моему ложу, чтобы попрощаться. Они пожали мне руку, и Цицерон заплакал. Я отпустил жалкую шутку насчет того, что это прощание напоминает сцену у смертного одра Сократа. А потом они ушли.
На следующий день Цицерон написал мне письмо и отослал его с Марионом, одним из самых доверенных своих рабов. «Я полагал, что могу несколько легче переносить тоску по тебе, но я совершенно не переношу ее, — писал он. — Мне кажется, что, уехав от тебя, я провинился. Если после того, как ты принял пищу, тебе кажется, что ты можешь меня догнать, то реши это своим умом. Я же тоскую по тебе так, как готов любить: любовь склоняет меня к тому, чтобы увидеть тебя здоровым, тоска — чтобы возможно скорее; итак, лучше первое. Поэтому заботься главным образом о своем здоровье. Из неисчислимых услуг, оказанных тобой мне, это будет самая приятная»[108].
Пока я болел, он написал мне много таких писем, а в один день я получил целых три. Само собой, я скучал по нему так же, как и он по мне. Но мое здоровье было подорвано. Я не мог путешествовать. Прошло восемь месяцев, прежде чем я снова увидел Цицерона, и к тому времени его мир — наш мир — полностью изменился.
Лисон был заботливым хозяином и привел своего врача, тоже грека, по имени Асклапон, чтобы тот лечил меня. Мне давали слабительное и потогонное, я голодал и подвергался промываниям: были испробованы все обычные средства против малярийной лихорадки, тогда как на самом деле я нуждался в отдыхе. Однако Цицерон волновался, считая, что Лисон «несколько небрежен, потому что все греки таковы», и договорился, чтобы несколько дней спустя меня перевезли в более обширный и спокойный дом на холме, подальше от шума гавани. Дом принадлежал другу детства Цицерона — Манию Курию.
«Всю свою надежду на внимательную заботу о тебе возлагаю на Курия. Ничто не может быть добрее его, ничто преданнее мне; доверься ему во всем»[109].
Курий и вправду был добродушным и образованным человеком — вдовцом, банкиром по роду занятий — и хорошо присматривал за мной. Мне дали комнату с террасой, выходящей на запад, где виднелось море, и позже, почувствовав себя достаточно окрепшим, я, бывало, сидел там после полудня, наблюдая, как торговые суда входят в гавань и покидают ее. Маний поддерживал связь со всевозможными знакомыми в Риме — сенаторами, всадниками, сборщиками налогов, судовладельцами, — и благодаря потоку его и моих писем, а также географическому положению Патр — ворот в Грецию, мы получали новости о государственных делах настолько быстро, насколько их мог получать человек в тех краях.
Однажды в конце января — месяца через три после отъезда Цицерона — Курий вошел в мою комнату с мрачным видом и спросил, достаточно ли я окреп, чтобы выдержать плохие вести. Когда я кивнул, он сказал:
— Цезарь вторгся в Италию.
Годы спустя Цицерон, бывало, гадал, можно ли было за те три недели, что мы потеряли на Родосе, спасти мир и предотвратить войну. Если бы только — жаловался он — добраться до Рима на месяц раньше! Цицерон был одним из немногих, кого слушали обе стороны, и он рассказал, что перед началом противостояния (за какую-нибудь неделю до него), едва очутившись на окраине Рима, он уже начал посредничать, имея в виду достичь соглашения. По его мнению, Цезарь должен был отдать Галлию и все легионы, кроме одного, а взамен получить разрешение избираться в консулы заочно. Но было уже поздно. Помпей с подозрением отнесся к этой сделке, сенат отверг ее, а Цезарь, как и подозревал Цицерон, уже принял решение нанести удар, посчитав, что никогда больше не будет так силен, как в те дни.
— Короче говоря, я находился среди безумцев, одержимых войной, — рассказал мне потом мой бывший хозяин.
Едва услышав о вторжении Цезаря, Цицерон отправился прямиком в дом Помпея на Пинцийском холме, чтобы заверить его в своей поддержке. Дом был битком набит вождями партии войны: пришли Катон, Агенобарб, консулы Марцеллин и Лентул — пятнадцать — двадцать человек. Помпей был в ярости и в смятении. Он ошибочно предположил, что Цезарь наступает со всеми своими силами — около пятидесяти тысяч воинов, — но в действительности этот заядлый игрок пересек Рубикон всего лишь с одной десятой от вышеназванного числа, полагаясь на потрясение, вызванное его действиями. Однако Помпей еще не знал этого и издал указ, гласивший, что город должен быть покинут. Он велел всем сенаторам до единого уехать из Рима, объявив, что оставшиеся будут считаться предателями. А когда Цицерон стал возражать, что это безумный поступок, Помпей набросился на него: «Это касается и тебя, Цицерон!»
Исход войны будет решаться не в Риме, объявил Помпей, и даже не в Италии — это сыграет на руку Цезарю. Нет, это будет всемирная война, сражения будут идти в Испании, в Африке и в восточном Средиземноморье, особенно на море. Он отрежет Италию от остального мира, сказал Помпей, и голодом принудит врага сдаться. Цезарь будет править покойницкой!
«Я отшатнулся перед жесточайшей и величайшей войной, какой люди еще не могут заранее себе представить»[110], — писал Цицерон Аттику.
Личная враждебность Помпея по отношению к Цицерону тоже стала для него потрясением. Он оставил Рим, как и было приказано, удалился в Формии и стал размышлять о том, что следует предпринять. Ему поручили заведовать обороной побережья и набирать рекрутов в Северной Кампании, но в действительности он ничего не делал. Помпей послал ему холодное напоминание о его обязанностях: «Я настоятельно советую тебе, известному выдающейся и неколебимой любовью к отечеству, двинуться к нам, чтобы мы могли сообща доставить помощь и утешение нашей страдающей стране».