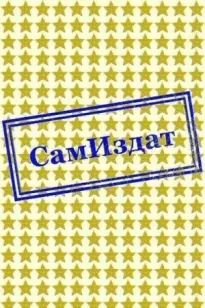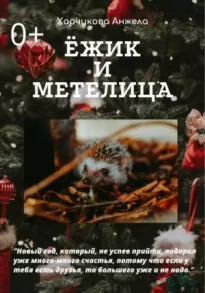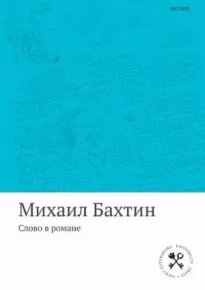Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков
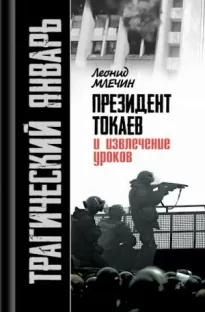
- Автор: Леонид Млечин
- Жанр: Публицистика / Современные российские издания / Политика и дипломатия
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков"
Исчезновение доверия в дипломатии страшно опасно. Возникает подозрительность, которую никакими силами невозможно развеять. Приводит это к тому, что уже никто никому не верит. Все убеждены, что другая сторона сознательно делает выбор в пользу конфронтации и вынашивает коварные замыслы. Эскалация — от потери доверия до уверенности во враждебности замыслов соперника происходит мгновенно.
Только дилетанты думают, что умный дипломат должен давать каждой стороне разное объяснение мотивов своих действий. Надо, разумеется, уметь воздействовать на собеседника, добиваясь нужного результата, но более тонкими методами. В этом и заключается дипломатическое искусство.
Токаеву, как руководителю казахстанской дипломатии, прежде всего предстояло установить новые отношения с Москвой.
В России дипломатам тоже пришлось туго в те трудные годы.
Впервые в истории МИД начался отток кадров. Дипломаты, особенно молодежь, бежали от маленькой зарплаты. В 1992 году из Министерства иностранных дел ушло триста с лишним человек, в следующем году еще больше. Уходили в бизнес, потому что нужны были деньги. Зарплаты в центральном аппарате министерства платились ничтожные — в сравнении с ожиданиями дипломатов и их высокой квалификацией.
Российские дипломаты трудятся на Смоленской площади — в известном всему миру высотном здании, которое в советское время делили с коллегами из Министерства внешней торговли. В высотке места всем не хватало, и специалисты по Ближнему и Дальнему Востоку расположились в маленьких комнатках соседнего с высотным здания, в котором когда-то находился известный гастроном «Смоленский», поэтому здание в мидовском обиходе именовалось «ГастроМИДом».
А сотрудники нового Департамента по делам СНГ — партнеры Токаева и его команды — обосновались и вовсе уж в тоскливом помещении, в здании на Старом Арбате, где находилась аптека. Это здание дипломаты между собой так и называли: «МИД-аптека».
В ту пору кабинеты мидовские находились в ужасающем состоянии — осыпающиеся потолки, обшарпанные двери, дряхлая мебель. Комнат не хватало, поэтому сидели дипломаты на голове друг у друга. Поехать в загранкомандировку стало неизмеримо труднее, потому что сократились штатные расписания посольств и консульств.
Бедствовавших дипломатов подкармливали тем, что отправляли вахтовым способом на три месяца в какое-нибудь посольство на свободную ставку. Командированный не пьет, не ест, копит валюту для семьи. Потом с деньгами и покупками — назад, в Москву. А в посольство едет следующий. В посольстве, конечно же, предпочли бы постоянного работника, за три месяца в дела не вникнешь, но все понимали, что людям надо как-то жить.
В начале 1990-х Министерству иностранных дел России не хватало денег ни на ремонт осыпавшихся потолков, ни на новую мебель для кабинета самого министра, ни даже на то, чтобы заплатить за лифт. Помню, как осенью 1994 года половину лифтов в высотном здании отключили за неуплату, и дипломаты не могли добраться до своих письменных столов. Такая жизнь не нравилась. Забыв свойственные им осторожность и сдержанность, дипломаты кляли новую власть, которая не может платить им хорошую зарплату и вернуть утраченное чувство избранности.
Важнейшими партнерами для Токаева были недавние сослуживцы по МИД СССР. Но теперь на переговорах они сидели по разные стороны стола. В прямом и переносном смысле.
Независимость бывших советских республик в Москве официально признали, но в душе российские чиновники и дипломаты еще не воспринимали Казахстан как самостоятельное государство. Это проявилось даже в том, что внутри Министерства иностранных дел никто не горел желанием заниматься странами СНГ.
Токаев видел, что его недавним коллегам, российским дипломатам трудно смириться с тем, что на территории бывшего Советского Союза сформировались самостоятельные государства, а у них есть собственная внешняя политика.
Почти сразу, с конца 1991 года, в России заговорили о том, что Северный Казахстан, где живет значительное русское население, — исконно российская территория. Если Казахстан уходит — пусть отдает наши земли… Некоторые российские политики отрицали историческое право Казахстана на независимую государственность.
Казахстан был крайне обеспокоен безопасностью своих границ и жестко реагировал на разговоры о территориальных требованиях. В конституции записали: «Суверенитет республики распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории».
При подготовке первого межгосударственного договора в 1992 году российская делегация не хотела включать пункт о признании территориальной целостности обоих государств. Но Казахстан настоял на своем. В договор записали и важное для республики обязательство запрещать деятельность организаций и групп, выступающих против независимости и территориальной целостности обоих государств.
Масла в огонь подлил вернувшийся в Россию из Соединенных Штатов лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Исаевич Солженицын. В сталинские годы он отбывал срок на территории Казахстана. В своей статье «Как нам обустроить Россию», изданной отдельной книгой, он фактически призвал передать России северную часть Казахстана, населенную в основном русскими.
Солженицын писал:
«Сегодняшняя огромная его территория нарезана была коммунистами без разума, как попадя: если где кочевые стада раз в год проходят — то и Казахстан. Да ведь в те годы считалось: это совсем неважно, где границы проводить, — еще немножко, вот-вот, и все нации сольются в одну… До 1936 года Казахстан еще считался автономной республикой в РСФСР, потом возвели его в союзную. А составлен-то он — из Южной Сибири, Южного Приуралья, да пустынных центральных просторов, с тех пор преображенных и восстроенных — русскими, зэками да ссыльными народами.
И сегодня во всем раздутом Казахстане казахов — заметно меньше половины. Их сплотка, их устойчивая отечественная часть — это большая южная дуга областей, охватывающая с крайнего востока на запад почти до Каспия, действительно населенная преимущественно казахами. И коли в этом охвате они захотят отделиться — то и с Богом».
В принципе Александр Солженицын возражал против участия России в центральноазиатских делах.
Выступая в Государственной думе в октябре 1994 года, он говорил:
— Нелепо, бессмысленно и преступно нам ронять российскую кровь между Таджикистаном и Афганистаном. Какое наше дело, что там происходит между группировками? Какое наше дело в той войне? Не там нам стоять.
Казахстану же, напротив, Солженицын предлагал помочь с охраной границ и вообще считал разумным заключить четверной союз трех славянских республик и Казахстана.
Но его слова вызвали резкие протесты в республике, где националисты, в свою очередь, требовали изменить политическую и демографическую ситуацию в пользу казахов, в частности, все высшие должности отдавать только казахам. Члены Конституционной комиссии предлагали записать в Основном законе: президент и глава парламента должны быть казахами. Националистически настроенная интеллигенция давно доказывала: чем меньше чужих, тем лучше.
Радикалы обеих стран фактически помогали друг другу. Они рассуждали так: «Зачем нам быть меньшинством в вашем государстве, когда вы можете быть меньшинством в нашем государстве». Казахов запугивали русским великодержавием, русских — казахским национализмом.
В Конституции 1993 года записали, что Казахстан — это «форма государственности самоопределяющейся казахской нации». Остальные народы оказались вычеркнутыми. Эта формула породила, мягко говоря, беспокойство среди неказахов, ускорила отъезд русских. Потеря для страны была не только репутационной. Все это отталкивало иностранных инвесторов.
30 августа 1995 года приняли новую конституцию, которая начинается словами: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой». «Народ Казахстана» — точнее и современнее. Не одна нация, а весь народ Казахстана, объединяющий все национальности, связанные общей исторической судьбой, созидает государственность «на исконной казахской земле».
Почему русские уезжали из Казахстана? Одни не верили в будущее независимого государства, другие боялись радикального национализма, третьим трудно было смириться с переменами. Они утратили привычный социальный статус и психологический комфорт. Это была драма — многие просто отказывались верить в происходящее. Впрочем, надо иметь в виду, что среди уезжавших были и военнослужащие, временно находившиеся на территории республики.
По подсчетам, в советский период в Казахстан переехало из европейской части СССР шесть с лишним миллионов человек. По переписи 1989 года, русских в Казахстане было 38 процентов. Русские — в основном горожане. (На 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 миллионов человек. Казахи — 69,03 %, русские — 18,47 %, узбеки — 3,29 %, уйгуры — 1,5 %, украинцы — 1,3 %, татары — 1,06 %, немцы — 0,92 %, турки — 0,61 %, корейцы — 0,57 %, азербайджанцы — 0,61 %, дунгане — 0,40 %.)
В Москве основным партнером Токаева и его коллег стал министр иностранных дел России Андрей Владимирович Козырев. Они практически ровесники, Козырев на два года старше. Оба сделали изрядную карьеру и стали министрами в достаточно молодом возрасте.
Козырев в советские времена трудился в Отделе международных организаций МИД, который занимался ООН, разоружением, международными конференциями. Эта работа сформировала у него представление о необходимости тесного сотрудничества с разными партнерами в решении глобальных проблем.
Ему сильно повезло с начальником. Отделом руководил Владимир Федорович Петровский, один из самых интеллигентных людей в министерстве, с удовольствием продвигавший молодежь.
Я познакомился с Козыревым летом 1989 года. Заместитель министра иностранных дел Петровский устроил в особняке МИД обед в честь заместителя генерального секретаря ООН Ясуси Акаси, с которым я, работая в журнале «Новое время», хотел поговорить. Обед в мидовском особняке — рутинное светско-дипломатическое мероприятие, на которое в ту пору приглашали «представителей общественности».
Петровский со свойственной ему любезностью познакомил меня с присутствующими, руководителями отдела (потом управления) международных организаций. Козырев был самым молодым по возрасту и младшим по должности, но именно его Петровский выделил особо, дав мне понять, что его ждет большое будущее.
На следующий день после распада Советского Союза Андрей Козырев проснулся министром иностранных дел великой державы, у которой еще не было внешней политики. И никто твердо не знал, какой она должна быть. Сам для себя задачу он сформулировал так: в сжатые сроки создать благоприятную внешнеполитическую среду для радикальных реформ в стране.
Козырев говорил мне:
— Западные демократии — естественные партнеры и союзники России. Я никогда не отказывался от этой идеи и умру с ней.
Андрей Козырев обычно говорил полушепотом, иронически улыбался, смотрел прямо в глаза и находил дипломатичный ответ на любой вопрос.