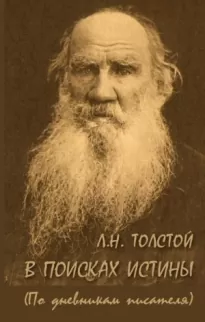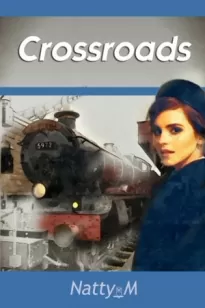Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители
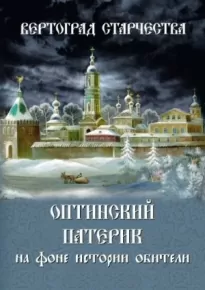
- Автор: Монах Лазарь Афанасьев
- Жанр: Биографии и Мемуары / Христианство / Православие / Религия и духовность: прочее
- Дата выхода: 2016
Читать книгу "Вертоград старчества. Оптинский патерик на фоне истории обители"
Однажды в Караганде был неурожай на картофель. «Батюшка своим чадам давал осенью картофель по мешку или по два на семью. В том числе дал мешок картофеля нашему дяде, семья которого состояла из трех человек. Прошла зима, и перед Пасхой дядя пришел домой и говорит своей супруге: “Шура, у наших соседей по батюшкиному благословению картошка не убывает. Им дали мешок, они всей семьей ели, и картошка не убывает”. — “А мы-то с тобой, — говорит жена, — тоже картошку не покупали, а всю зиму ее варили, и у нас-то, посмотри, еще картошка есть”»666.
Это плоды земные. А о плодах духа отец Севастиан говорил прихожанам: «Принесем Господу не хромое, не кривое, не слепое, не гнилое, а здоровое, чистое, первородное. Как пророк говорит: возделывал землю, насаждал ниву, обрабатывал ее, полол, поливал, а когда пришел за плодами, ничего не обрел. Кое-где клас на ниве, кое-где виноград на лозе. Враги Господа пришли, украли и унесли все. Так вот и человек на ниве души своей должен трудиться не бесполезно, внимать себе, чтобы не пришли враги: мир, диавол, плоть и смерть — и не обокрали ее. Приходит мир — забирает свое, привлекая богатством, роскошью, честолюбием. Приходит диавол, все последнее уносит: чистоту, целомудрие, невинность, страх Божий. Приходит старость и смерть, человек хочет и сам пожать что-нибудь на ниве своей и ничего не обретает. Лишь кое-где бывало намерение доброе дело соделать при греховной жизни. И жалеет человек, что прожил жизнь и не приобрел добрых дел для будущей жизни. И смерть пришла, и времени уже нет для покаяния, для слез и молитвы. Особенно опасна нечаянная смерть. А потому не нужно откладывать покаяние и приобретение добрых дел на старости лет, когда уже не будет сил ни телесных, ни душевных. Все врагами будет скрадено, а себе — ничего, пусты светильники. Молиться с любовью к Богу и все дела начинать с молитвы. А без молитвы только суетные дела бывают»667.
Сохранились разные высказывания и советы батюшки. В них сказался огромный духовный опыт. Он говорил, например, что «болеть нам необходимо, иначе не спасемся. Болезни — гостинцы с неба!». «За несоблюдение без причины постов, — говорил он, — придет время — постигнет болезнь. Тогда не по своей воле будешь поститься». Еще говорил: «Кто идет с самого начала постепенно, не делая скачков с первой ступени через две-три, а постепенно переходя с одной на другую, до конца не торопясь, тот спасается». Он следил, чтобы в храме свечи были из воска: «На ароматный запах восковых свечей сходит благодать Божия». О пчелах: «Сколько они пользы приносят: Богу — воск, а человеку — мед». «Молодые, — говорил он, — не должны уделять своей внешности большого внимания. Не надо им слишком за собой следить: ни часто мыться, ни одеваться со вкусом, а небрежнее, не смущая свою душу и совесть, чтобы и для других не быть камнем претыкания. Сам хочешь спастись, и другим не мешай. А старенькие должны быть чистыми и опрятными, чтобы ими не гнушались и не отворачивались от них»668.
Отец Севастиан убеждал на поминки не брать вина, а тем паче водки. «Постом — постной пищей поминайте, а в обычные дни тоже попроще и не много блюд. Покойникам этого не требуется». Еще его слова: «Кто любит много говорить, празднословить и шутить, у таковых под конец жизни Господь отнимает речь». Говорил: «Самая лютая страсть — блудная. Она может бороть человека на болезненном и даже смертном одре, особенно тех, кто прожил жизнь земную до старости невоздержанно. Эта страсть в костях находится, она бесстыжее всех страстей. Никто сам по себе не может избавиться от нее. Только Господь может избавить, когда обращаешься к Нему со слезами и сокрушенным сердцем. Помнить нужно об этой брани до самой смерти. Стоит только немного забыться, оставить молитву, потерять страх Божий, как она тут же даст о себе знать. Только непрестанная молитва, страх Божий, память смертная, память о суде, аде и рае отгоняет ее». «В деле своего спасения, — говорил отец Севастиан, — не забывайте прибегать к помощи святых отцов и святых мучеников. Их молитвами Господь избавляет от страстей. Но никто не думай своими силами избавиться от них. Не надейтесь на себя до самой смерти в борьбе со страстями. Только один Господь силен избавить от них просящих у Него помощи. И покоя не ищите до самой смерти».
«Лучше молча за людей молиться, — говорил он, — чтобы сами свои недостатки осознали, а не обличать, как говорится, сплеча, отчего иные могут духом упасть и в отчаяние прийти». Не раз говорил отец Севастиан, что «любовь выше всех добродетелей», что «Бог есть любовь», что «без любви хоть тело отдай на всесожжение — все ничто»… «Где любовь — там Бог». «Любовь ищет пользы ближним, даже врагам». Любил батюшка повторять слова апостола Иоанна Богослова: «Дети, любите друг друга»669.
В поселке Мелькомбината («Скит…») жил приехавший сюда овдовевший старший брат отца Севастиана Иларион с младшей дочерью и внучкой. Он бывал в Михайловской церкви, подходил под благословение брата. Перед кончиной он был пострижен в рясофор и отпет отцом Севастианом. Время шло, недуги батюшки возрастали и лишали его постепенно сил и даже возможности служить, но он сопротивлялся с Божией помощью до последнего. Дошло до того, что зимой в мороз его из келии в храм переносили в нарочно сделанном для этого креслице. Вот настал Великий пост 1966 года. В Прощеное воскресенье отец Севастиан служил литургию, а вечером чин прощения. Покаянный канон святого Андрея Критского читал сам. Из Сибири привезли бесноватую. Во время богослужения она блеяла овцой, кричала петухом… В воскресенье после вечерней службы батюшка внезапно вышел из Царских дверей на амвон в мантии и с посохом. Бесноватая пошла, лая и мяукая, к амвону. Немного не дойдя, запела петухом… «Ну!» — грозно сказал отец Севастиан. Бесноватая снова закричала, но потише… «Ну!» — повторил он. Еще тише был крик петушиный… И опять: «Ну!» — и все смолкло. Бесноватая сказала: «Ты Иисус Навин», — «Я не Иисус Навин, я Севастиан, — сказал батюшка. — Завтра утром придешь сюда к священнику, исповедуешься и причастишься». Исповедовалась она уже излеченной670.
16 апреля приехал из Москвы епископ Питирим (Нечаев). В этот же день постриг отца Севастиана в схиму. Скончался старец 19 апреля 1966 года на Радоницу. Неисчислимое количество мирян, монахов, духовенства сошлось и съехалось в Караганду к похоронам преподобного Севастиана. Отпевал его владыка Питирим. Служились бесконечные панихиды. Гроб несли на Михайловское кладбище на вытянутых вверх руках. Следом шел хор девушек с пением «Христос воскресе…». Великий праведник и подвижник оптинской духовной закалки упокоился в земле, ставшей ему родной, провожаемый необозримым сонмом собранных им к Господню Кресту людей.
Ольга Фёдоровна Орлова, врач, лечивший батюшку, не раз видела его после смерти его во сне. В январе 1994 года видела она сон: «Зашла в келию к батюшке. Он сидел там, в переднем углу, перед иконой Спасителя, облокотясь на столик. Одет был в новую красивую рясу, подол которой опускался на пол, и в камилавку с наметкой, тоже новую. Создалось впечатление, что батюшка откуда-то пришел, но не переоделся (он обычно сразу же снимал рясу и камилавку). Вид у него был торжественный. Я подошла к батюшке, опустилась на колени и сказала: “Благословите, батюшка”. Он благословил, я поцеловала его руку и ощутила, что рука была теплая и мягкая, как живая. Я приникла к руке и говорю: “Батюшка, дорогой, как долго я вас не видела, как соскучилась по вас”, — и почувствовала спазм в горле и что сейчас расплачусь. А батюшка ласково говорит мне: “А между прочим, я бываю здесь ежедневно”. Я подумала: “Как же это, ведь он же там” — и начала говорить: “Как же, батюшка, ведь вы же…” — но батюшка прервал меня и сказал: “Да, да. Я бываю и здесь и там, но бываю каждый день”. Он говорил эти фразы отчетливо, убедительно. И я проснулась»671.
13–16 августа 2000 года Собор Русской Православной Церкви в числе сонма новомучеников и исповедников Российских прославил во святых Божиих архимандрита Георгия (Лаврова), который прошел через тюрьмы и ссылку и скончался в 1932 году в Нижнем Новгороде от тяжкой болезни. Он пришел юношей в Оптину пустынь в 1890 году пешком из орловской деревни Касимовка. Около восьми лет трудился на разных послушаниях в монастыре — на кухне, в пекарне, на свечном заводе, в поле, на рыбной ловле. 16 октября 1898 года он был зачислен в братство. В 1899 году, 23 июня, состоялся постриг его в монашество с именем Георгий (мирское имя его Герасим). 24 октября 1902 года отец Георгий был рукоположен во иеродиакона. В послушании он был у старца Иосифа. Двадцать четыре года отец Георгий подвизался в Оптиной, служа и занимаясь духовным деланием. 2 января 1914 года он был переведен в Мещовский Георгиевский монастырь и указом Святейшего Синода от 31 октября 1915 года назначен на должность настоятеля с рукоположением в сан иеромонаха. 9 декабря 1918 года большевики арестовали его, посадили в тюрьму и приговорили к расстрелу, которого он избежал чудом. С 1922 года он насельник московского Данилова монастыря, духовник, обладающий истинно «оптинскими» старческими дарами. Он был прозорлив, имел замечательную способность рассуждения, многих наставил на истинный путь, привел к Богу, спас от отчаяния. Среди его духовных чад были епископы и священнослужители, а также множество мирян. В 1928 году последовал второй арест отца Георгия, затем опять тюрьма и ссылка в Казахскую степь. Оттуда вернулся отец Георгий в Россию уже смертельно больным672.
Много еще было оптинских монахов в рассеянии в советские времена, — материалы о них пока не собраны. В бумагах нового Оптинского архива встречаются о них иногда краткие справки, иногда отрывочные сведения. Так, священник отец Моисей в 1989 году среди многих в прошлом знакомых ему оптинских иноков вспомнил монаха Якова, который в Козельске после 1923 года «ходил, низко пригнувшись к земле, с коротенькой палочкой, чтобы не видеть мира. Годами не разгибался». Красноречивый штрих! Сразу виден настоящий подвижник.
Или вот иеромонах (с 19 февраля 1913 года) Игнатий (Иван Фёдорович Бахтиаров), родившийся в 1863 году в крестьянской семье в Орловской губернии. В Оптину пустынь пришел в 1886 году. В мае 1918 года он был перемещен из Оптиной на приход под Козельском — в селе Позднякове, где заболел катаром легких. А что стало с ним в дальнейшем? Это пока неизвестно.
Иеромонах Гамалиил (Герасим Аксёнович Перкин), родился в 1875 году, также из крестьян, из Пензенской губернии. Нес послушание на пасеке. Призывался на военную службу в 1905 году. Вернулся в Оптину… Иеродиакон с 3 ноября 1917 года. Когда рукоположен в иеромонаха — неизвестно. Что с ним было в последние годы, где он был, служил?.. Вероятно, не избег и лагерей или ссылок…
Послушник Антоний Юрьевич Прищепов (родился в 1894 году в крестьянской семье под Гомелем) трудился в Оптиной пустыни в переплетной мастерской. 1 января 1918 года призван был в действующую армию. Известно только, что впоследствии он стал приходским священником. И более ничего.
Оптинский иеромонах Арсений с 10 декабря 1918 года служил по благословению Калужского владыки на приходах в Козельском уезде — в селах Никольское и Олопово. Это все, что мы о нем знаем…