Итальянские маршруты Андрея Тарковского

- Автор: Лев Наумов
- Жанр: Биографии и Мемуары / Кино
- Дата выхода: 2022
Читать книгу "Итальянские маршруты Андрея Тарковского"
Многие теоретики киноискусства[98] склонны подчинять эстетику кадра тем же принципам, которыми руководствуются живопись или фотография. Сам фильм в целом упомянутые исследователи, как привило, относят к продуктам синтеза двух названных видов искусства с другими. Чаще всего — с литературой и музыкой. Тарковский же, знаток живописи, ценитель литературы, меломан, синтетическим искусством кино вовсе не считал[99], но относил его к новым базовым видам творчества, не разделяемого на компоненты. Именно потому всякий раз столь надуманными выглядят мнения о сугубо изобразительной, живописной природе его кадров.
Примерно в это время Андрей в очередной раз формулирует в дневнике[100]: «Моя цель вывести кино в ряд всех других искусств. Сделать его равноправным перед лицом музыки, поэзии, прозы…» Он будет настаивать[101], что единственным режиссёром, которому это удавалось прежде, является Робер Брессон. Удивительно, но очень похожие задачи ставил перед собой, скажем, Леонардо да Винчи, желавший превратить живопись из сервильного ремесла в высокое искусство. Сейчас нелегко вообразить, однако подобная проблема, действительно, стояла в эпоху Возрождения.
Вспоминаются и другие слова: Тарковский многократно признавался, что литература, музыка и живопись неизменно «питали» его куда больше, чем чужое кино. Заметим, и Брессон придерживался подобной точки зрения, приводя в подобных случаях цитату Стендаля: «Другие искусства научили меня искусству писателя».
Здесь нет никакого противоречия. С детства у Андрея всегда была замечательная библиотека. Он привык много читать. До туберкулёза мальчик обладал идеальным слухом, благодаря усилиям матери окончил музыкальную школу по классу рояля, а параллельно два года — с 1943-го по 1945-й — занимался в кружке рисования. Вообще, это достаточно важная черта «мифа о гении» — такой человек должен быть «поцелованным» всеми музами сразу.
Впрочем, следует отметить, что уже в юности механизм его восприятия, например, словесности был скорее визуальным, а то и протокинематографическим. Вот, например, как он описывает[102] впечатления от одного поэтического текста: «Ещё в начальной школе меня поразил пушкинский „Пророк“. Я его не понял, конечно. Но увидел. Он в моем воображении связывался с иконой времени Грозного „Иоанн Предтеча“, которая висела в комнате, где я спал. Мятежная с огромными крыльями фигура на красном, как кровь, фоне. И почему-то я видел песок. Плотный, убитый временем. Это, наверное, из-за строк, „как труп в пустыне я лежал“. Правда, я не чувствовал тогда, что такое труп… И ещё из-за строки: „В пустыне жалкой я влачился…“»
Заметим, что на первых порах Тарковский всё-таки был убеждён, что кино уступает «старым» искусствам, поскольку оно лишено «мысленного возвышения над реальностью». Со временем он начнёт решать эту «проблему», потому в его фильмах будет появляться всё больше снов и видений — того, что выходит за рамки привычной действительности, оставаясь её частью. Кстати, пару раз ту же задачу декларировал и Брессон, заявляя, подчеркнём, что главное для него — уравнять в правах кино именно с литературой.
Рассуждая о «методе Тарковского», не стоит заводить речь о заимствовании средств и решений из других видов искусства, но нельзя забывать, что, так или иначе, все крупные авторы работают с категорией идеала посредством инструментов образного мышления. Именно потому, с одной стороны, режиссёр пишет в «Запечатлённом времени»: «Я никогда не понимал, как можно, например, строить мизансцену, исходя из каких-либо произведений живописи. Это значит создавать ожившую живопись, а потом удостаиваться поверхностных похвал, вроде: ах, как почувствована эпоха! Ах, какие интеллигентные люди! Но это же значит целенаправленно изничтожать кинематограф». Но с другой, в той же работе он объясняет, когда и для чего поступает так: «Образы, создаваемые Леонардо, всегда поражают двумя вещами. Удивительной способностью художника рассмотреть объект извне, снаружи, со стороны — надмирностью взгляда, свойственного таким художникам, как, например, Бах или Толстой. И другое — что они воспринимаются в двояко-противоположном смысле одновременно. Невозможно выразить то окончательное впечатление, которое производит на нас этот портрет [Джиневры де Бенчи, иногда именуемый „Портрет молодой женщины с можжевельником“, написанный примерно в 1480 году]. Невозможным оказывается даже определенно сказать, нравится нам эта женщина или нет, симпатична она или неприятна. Она и привлекает, и отталкивает. В ней есть что-то невыразимо прекрасное и одновременно отталкивающее, точно дьявольское. Но дьявольское — отнюдь не в притягательно-романтическом смысле. Просто — лежащее по ту сторону добра и зла. Это обаяние с отрицательным знаком: в нём есть что-то почти дегенеративное и… прекрасное. В „Зеркале“ нам этот портрет понадобился для того, чтобы, с одной стороны, найти меру вечного в протекающих перед нами мгновениях, а, с другой стороны, чтобы сопоставить этот портрет с героиней: подчеркнуть, как и в ней, так и в актрисе Тереховой эту же самую способность быть обаятельной и отталкивающей одновременно». Добавим, что по воспоминаниям Маргариты, упомянутый кадр, на котором крупным планом показано лицо её героини после убийства петуха, так похожее на де Бенчи — единственная цветная фотография в разделе «Советское кино» итальянской киноэнциклопедии. Вновь заметим: именно итальянской!
Однако, контрпрогрессивный взгляд Тарковского отдаёт декадансом. Литература и живопись, дескать, обладают беспрецедентными возможностями, позволяя воплотить любой плод воображения, тогда как средства кино жёстко ограничены. Всякий режиссёр находится в тисках безжалостной реальности. Да, ему под силу по собственной воле перетасовать людей и объекты перед камерой, но физика (а также экономика и многое другое) создают куда более тесные рамки, чем воображение[103]. Иными словами, работу автора фильма Андрей видел как селекцию, отбор из действительности всего того, что составит форму и содержание произведения. Именно потому Тарковский сравнивает эту деятельность с «отделением света от тьмы и тверди от воды». Он оказывается в достаточно архаичном положении демиурга, статус которого писатели, например, потеряли ещё в XIX веке, когда окончательно сдал свои позиции реализм.
Из всего сказанного следует сделать вывод, очевидный и без того: кино находится на существенно более ранней ступени развития не только по абсолютной, но и по относительной величине. Андрей же в семидесятые годы считал текущую фазу этого искусства совсем уж первобытной, неоднократно повторяя, будто ещё даже не оформился никакой киноязык. С этим трудно согласиться. Сейчас, когда прошло почти полвека, становится ясно, что сам Тарковский тогда сформировал, причём далеко уже не первый диалект этого языка. Более того, хоть современному кинематографу законы физики уже не указ, а воображение авторов более не стесняет почти ничего, кажется, что именно те времена, о которых с такой заповедной тоской рассуждает режиссёр, и были «золотой порой».
Для классических художников особенно важна и в каком-то смысле неизбежна преемственность поколений. Потому нельзя не вспомнить здесь слова Арсения Тарковского, видевшего перед собой ничуть не менее амбициозную цель: «Я мечтал возвратить поэзию к её истокам, вернуть книгу к родящему земному лону, откуда некогда вышло всё раннее человечество… Во имя цельности мира книга и естество должны находиться в неприкосновенном единстве».
Авторитет и латентное влияние отца на сына трудно преувеличить. Стоит взглянуть на стихи, которые писал сам Андрей в шестидесятые[104]. Они не то, что сочинены в подражание, скорее для Тарковского-режиссёра само понятие «стихотворение» соотносилось исключительно с тем, что делал папа. Даже шире: сын представлял себе работу в искусстве только такой, какой её осуществлял отец, говоривший, что «поэзия — меньше всего литература, это способ жить и умирать».
Поездка в ГДР далась режиссёру нелегко, и главная тому причина — сердечный приступ, случившийся в Потсдаме. Это произошло буквально за несколько дней до возвращения в Москву и на программе мероприятий не сказалось. Вернулся же Тарковский 7 марта.
Примерно в это время в СССР приехал Мориц Де Хадельн. На этот раз уже Андрей на правах хозяина водил гостя в ресторан Союза кинематографистов. По воспоминаниям Де Хадельна, они обсуждали фильм Бергмана «Шёпоты и крики» (1972), который Тарковскому совершенно не понравился.
Хоть это и не упоминается в дневнике, в этом году режиссёр побывал в Берлине ещё раз, но в другой его части и в другой стране — в ФРГ. Андрея пригласили на Берлинский кинофестиваль, проходивший с 22 июня по 3 июля. «Рублёв» демонстрировался вне конкурса. Так к фильму приходила запоздалая, но масштабная мировая слава.
Награды всё прибывали — за «Иваново детство», «Рублёва» и «Солярис». На адрес Госкино и «Мосфильма» приходили не только письма от зрителей, но и приглашения Тарковскому на мировые киносмотры, а также поздравления от коллег. Автору передавали далеко не всё. Чаще он узнавал о депешах случайно. Его международное признание было уже состоявшимся фактом. Это делало ситуацию всё менее контролируемой для советских чиновников и совершенно невыносимой для режиссёра. 20 октября Андрей оставил в дневнике крайне важную запись: «Одна из дурных мыслей: ты никому не нужен, ты совершенно чужд своей культуре, ты ничего не сделал для неё, ты ничтожество. А если серьёзно задают вопрос в Европе, да и где угодно: „Кто лучший режиссёр в СССР?“ — Тарковский. Но у нас — молчок. Меня нет, и я — пустое место… Мне тесно, моей душе тесно во мне; мне нужно другое вместилище».
Примечательно, что под «своей культурой» режиссёр вновь имеет в виду официальную советскую. Чужим он ощущает себя, а вовсе не её по отношению к «русской культуре» — категории всё чаше возникающей в диссидентских книгах, рассматривающих застой, как патологическое отклонение.
Всякий раз, когда заходит речь о тернистом пути признания Тарковского на родине, вспоминается один сюжет, который вполне может оказаться историческим анекдотом, но даже в этом статусе много объясняет. Как-то Эйно Рахья — телохранитель и проводник Ленина, организовавший его переезд из Разлива в Финляндию, а потом в Петроград — сказал своему собеседнику: «Таких [талантливых, одарённых] людей как вы надо резать. Ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство»[105]. Адресованы эти слова были не кому иному, как Фёдору Шаляпину.
Концепция всеобщего равенства в материальном аспекте показала свою несостоятельность уже на ранних этапах коммунистического эксперимента и сделала это столь наглядно и убедительно в своей неразрешимости, что в фольклоре осели аксиомы вроде: «Все равны, но кто-то равнее». Однако на неравенство в духовной сфере страна победившего материализма порой реагировала куда более остро. Это и понятно, поскольку материальное неравенство носило либо субъективный, либо преодолимый характер, тогда как духовное иногда становилось опасно объективным. В том числе и поэтому на советской почве возникло такое множество выдающихся авторов, привлекавших внимание всего мира.

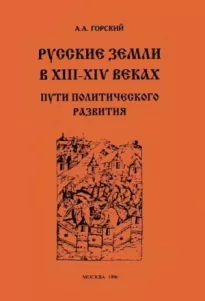



![Рабиндранат Тагор [без илл.]](/uploads/covers/2023-07-09/rabindranat-tagor-bez-ill-201.jpg-205x.webp)