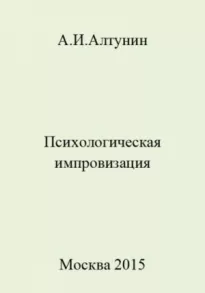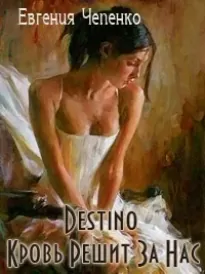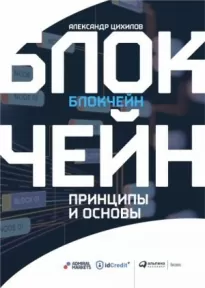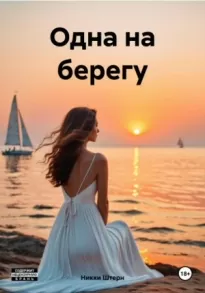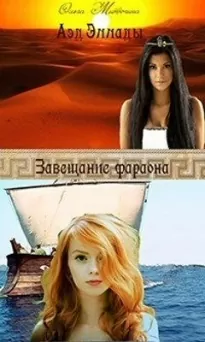«Отреченное знание». Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века. Историко-аналитическое исследование (2-е изд.)
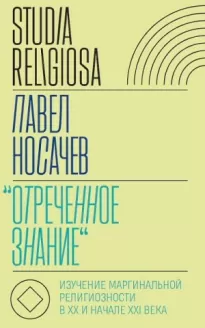
- Автор: Павел Носачёв
- Жанр: Философия / Религиоведение
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "«Отреченное знание». Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века. Историко-аналитическое исследование (2-е изд.)"
«…Наука прошлого, настоящего и будущего»
Разумеется, до Кулиану уже многие обращались к эпохе Возрождения и рассматривали ее со множества различных позиций, но важнейшая загадка так и не была окончательно разрешена: что такое магическое мышление эпохи, что такое магия и почему она предшествовала рождению нововременной рациональности? Напомним, что на эти вопросы пыталась ответить Фрэнсис Йейтс, на них же по-своему отвечают Ханеграафф, Февр и Штукрад, но Кулиану не просто попытался сконструировать отвлеченную теорию описания некоего положения дел, а попробовал понять, чем была магия для Бруно и его современников, для чего, по сути, нужно было начать мыслить как Бруно, сделать его мир своим миром. На наш взгляд, Кулиану это вполне удалось. Но пойдем по порядку.
Хотя между Ренессансом и Новым временем существует прямая хронологическая связь, для Кулиану системы их мировоззрений совершенно несопоставимы. Научная картина мира, определившая развитие западной цивилизации на века, не имеет почти ничего общего с магическим мировоззрением выдающихся умов эпохи Возрождения, в этом убежден Йоан Кулиану. Чтобы понять эту картину, нужно усвоить ряд положений, очевидных для той эпохи и совершенно чуждых современности. Первое и главное — роль фантазмов в системе мышления и познания мира. Дуализм телесного и душевного решался с помощью введения третьей опосредующей сферы — астральной. Кулиану говорит, что
тело открывает душе окно в мир посредством пяти чувственных органов, сообщения которых идут в аппарат сердца, занимающийся их расшифровкой, чтобы они стали понятными. Именуемый фантазией или внутренним чувством, звездный дух преобразует сообщение от пяти чувств в фантазмы, воспринимаемые душой, поскольку душа не может воспринять ничего, что не было бы облечено в последовательность фантазмов; проще говоря, она ничего не может понять без фантазмов[766].
Фактически вся сфера любовных, эротических переживаний, сфера памяти и магия полностью завязаны на этой теории познания, включающей фантазмы как ключевой аспект.
Эротическое влечение формируется посредством образа, который попадает в глаз человека с помощью «внутреннего огня» другого человека, любимого им. Внутренний огонь обуславливает механизм зрительного познания, глаз источает его вовне и, смешиваясь с пневмой (которая со времен стоиков и Галена считалась проникающей все окружающее), попадает в глаза другого, вызывая фантазм. Так влюбленный мужчина сначала созерцает объект своей любви, полностью помещает все его детали в воображение (конструируя фантазм), а позже уже этот фантазм поражает все тело, посредством обратной связи вызывая тяжелые болезни, порывы страсти и, по сути, подчиняет все существо любящего фантазмическому объекту его любви. Иллюстрацией именно такого процесса являются слова поэта Джакомо де Лентино (Giacomo da Lentino): «Как может быть, что столь большая женщина может проникать в мои глаза, ведь они такие маленькие, а затем входить в мое сердце и мой мозг?»[767]
На том же принципе основывается и древнее искусство памяти. Фрэнсис Йейтс достаточно подробно описала метод loci, систем зрительных образов, помещаемых оратором с помощью воображения в окружающее пространство, для того чтобы, произнося речь по этим образам, подробно реконструировать ее последовательность и смысл[768]. По сути, ренессансное искусство памяти — это «техника манипуляции фантазмами»[769], обретшая две формы выражения: утилитарную, кодифицирующую знаки и образы, необходимые для запоминания, позже выродившуюся в простую забаву; и универсальную комбинаторику, развитую Раймондом Луллием, в которой образы-фантазмы являются не служебным орудием, а «приблизительным выражением высших истинных реальностей интеллигибельного порядка, бледной копией которых и является наш мир»[770]. Именно с последней разновидностью и связан феномен магии этой эпохи.
Из всех деятелей Возрождения наибольший интерес для Кулиану представляет Джордано Бруно, он пишет и о Мирандоле, и о Фичино, но лишь Бруно посвящает несколько развернутых разделов, и именно его учение о магии, можно сказать, является центральным в книге. С одной стороны, потому что Бруно является последним самым ярким представителем эпохи, жившим как раз во время ее заката. Приезд Бруно в Англию и его жизнь там демонстрируют резкий контраст магического мировоззрения Ренессанса и утилитарного мышления новой научности, фактически Бруно является пришельцем из другой эпохи, мысль и таланты которого уже никто не может по достоинству понять и оценить. Как отмечает Кулиану, единственным, кто мог бы это сделать, был Джон Ди, покинувший туманный Альбион в тот год, когда туда приехал Бруно. С другой стороны, в творчестве Бруно эксплицированы с максимальной открытостью идеи магического мировоззрения, являющиеся объектом исследования чикагского религиоведа.
Бруно использовал те же техники памяти, что и его предшественники, с целью создания больших картин в воображении, картин, несущих не утилитарный, а магико-религиозный смысл. Так, сюжет с Актеоном, подглядевшим купание богини Дианы, должен стать картиной памяти, указующей на процесс постижения иных божественных реальностей. Напомним, что по сюжету мифа Актеон охотился и случайно увидел богиню Диану, купавшуюся в лесном озере, он был поражен ее неземной красотой, богиня же превратила его в оленя, которого тут же растерзали его же собственные охотничьи собаки. По толкованию Бруно, Актеон не несчастный охотник, а существо, сподобившееся соединения с богиней. Ведь зрение — фантазмический акт познания, и поскольку богиня позволила смертному видеть себя, то в этом акте созерцания он стал обладать ею, и за это богиня превращает его в свое животное — оленя, дальнейшее же завершение истории есть лишь подтверждение истинности избранничества богини, ведь соединившийся с ней не желает более жить в земном мире, следовательно, смерть для него желанна.
Вся эта картина должна наводить создающего ее в своей памяти на определенные духовные размышления, которые Бруно, очевидно, практиковал. Кулиану очень нетривиальным образом интерпретирует эти образы бруновской мнемотехники. Приведем эти характерные слова in extenso:
Мы уже можем понять презумпцию Бруно (давайте ограничим себя этимологическим смыслом этого слова): он утверждает, что сам и есть этот «живой мертвец», «этот человек, освободившийся от пределов человеческого рода». Он считает себя религиозным лидером, который, подобно святому Фоме, святому Павлу, Зороастру и т. д., открыл «печать печатей», который стал возлюбленным девственной богини, недостижимой Дианы. В таком контексте легко понять, почему инквизиция послала его на костер. Не мог ли он в принципе с помощью маленького чуда спасти себя? И не была ли мудрая и хитрая инквизиция уверена в том, что ему не удастся выполнить такое чудо? В каждом процессе над ведьмами, а я считаю случай Бруно именно таким, повторяется искушение Иисуса Христа, задается вопрос: не может ли подсудимый спасти себя? Конечно, один из глубочайших смыслов христианской истины заключается в том, что Иисус предается на волю Своего Отца, Который решает не спасать Его, а предать в жертву, чтобы искупить грехи человечества (felix culpa, quia tamen ac tantum meruit habere Redemptorem…). Не исключено, что Бруно предусматривал сожжение на костре как заключительный акт процесса, уже давно шедшего внутри него, — отвержение его человечества и переход в состояние божественности. Не свидетельствуют ли об этом его последние слова, которые всегда неверно истолковывались? «Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis, quam ego accipiam» — «Кажется, что вы с большим страхом произносите приговор, чем я выслушиваю его»[771].
Иными словами, Бруно был уже мертв для этого мира и жил для иного мира языческих богов и богинь, который в его представлениях был смешан с историей христианства и современностью в единое противоречивое целое. Хотелось бы остановиться на этой интерпретации. Мы уже встречали исследования жизни Бруно и у Йейтс, и у последующих авторов, но, пожалуй, никто не претендовал на раскрытие внутреннего мира мага так, как сам Бруно осознавал его. Кулиану здесь фактически берет на себя смелость передавать мировоззрение Бруно не отвлеченно, как это принято в научном сообществе, а включенно, будто бы пережив вместе с Ноланцем его видения и осознав всю их важность для его жизни. Именно поэтому Кулиану не раз сокрушается о полном непонимании жизни и творчества Бруно потомками, сделавшими его символом демократии и свободы, каковым он никогда не являлся. Подобные рассуждения встречаем мы и у Йейтс[772], но британская исследовательница стремится показать чуждость и противоположность мысли и взглядов Бруно новой науке, Кулиану же сопереживает Бруно и его миру, противопоставляя его нововременному мировоззрению[773], и складывается ощущение, что в этой оппозиции сам Кулиану стоит на стороне Ноланца. Последнее замечание могло бы быть случайным и ошибочным, если бы не дальнейшие подтверждения догадки, которые мы находим в описании взглядов Джордано Бруно на магию.
Особую роль в понимании магии здесь может сыграть малоизвестный трактат Бруно «De vinculis in genere», по мнению Кулиану, честностью и цинизмом сравнимый лишь с «Государем» Макиавелли и преследующий сходные с произведением итальянского философа цели, но если Макиавелли говорит о политической плоскости правления, то Бруно разбирает его магическую составляющую. Трактат написан с точки зрения мага-манипулятора, рассматривающего мир и социум как сферу приложения своих знаний и сил. Напомним, что магия работает в сфере фантазмов, фантазмы наполняют мир воображения, а воображение является определяющей составляющей действия — как каждого отдельного человека, так и масс. Иными словами, в трактате Бруно мы сталкиваемся со средством манипулирования человеческим сознанием, как индивидуальным, так и массовым, манипулирования посредством образов. Думается, что аналогии из современной жизни сами приходят на ум, но Кулиану не собирается оставлять эти аналогии нераскрытыми, он начинает подробно их анализировать, прежде всего сопоставляя книгу Бруно с «Массовой психологией и анализом человеческого „Я“» Зигмунда Фрейда и «Толпой» Густава Лебона. Для Кулиану книга Бруно — не теоретическое описание исследователя, а схема-прототип развития любой системы манипулирования сознанием, вплоть до сего дня. «Маг „De vinculis“ является прототипом безличной системы массмедиа, непрямого цензурирования, глобальной манипуляции и промывания мозгов, составляющих суть оккультного контроля над западными массами»[774]. Сам манипулятор здесь предстает как лишенный страстей и не подверженный манипуляциям человек, который должен в себе воспитать качества, делающие его магом. Чуть позже, рассуждая о психической нормальности мага, Кулиану полностью признает ее, поскольку все процессы, осуществляемые магом, и его внутреннее состояние могут быть лишь нормальными, ведь он должен прекрасно понимать суть и природу фантазмов и уметь транслировать их другим людям, тогда как психически больной является сам порабощенным неконтролируемыми фантазмами. Манипулировать маг может лишь людьми, имеющими веру, вера понимается в широком плане, верить можно в разное, но очевидно, что религии для Бруно есть первые и самые действенные средства манипуляции. Легче поддаются манипуляции люди, обладающие меньшими знаниями, но, по существу, все в этом мире поддается магическому воздействию мага-манипулятора. Еще раз заметим, Бруно здесь не осуждает, а лишь описывает конкретные рецепты по управлению людьми. Говорить о магии манипуляций можно достаточно долго, но мы хотим вернуться к теме Кулиану как исследователя, ибо здесь максимально выражена не просто симпатия ученого к предмету своего исследования, а полное слияние и проникновение в его идеи. Фактически Кулиану начинает мыслить как Бруно и воспринимает окружающую реальность через призму системы последнего. Вот красноречивый пассаж, в котором это ярко проявляется: