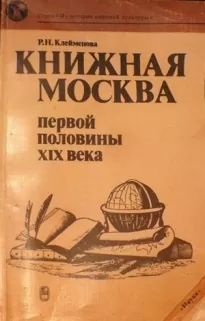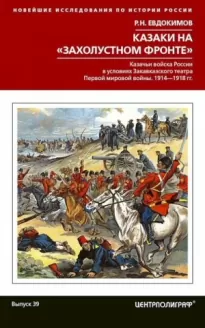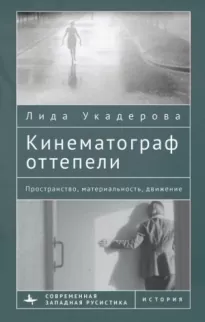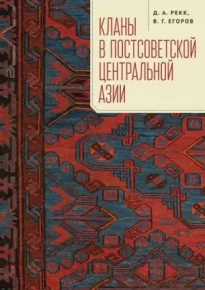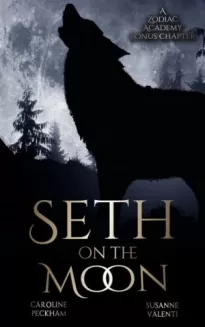Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)
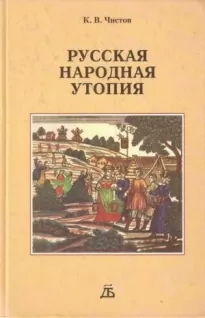
- Автор: Кирилл Чистов
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)"
Таким образом, возникло специфическое противоречие: Пугачев должен был заботиться о постоянной поддержке веры в свою «истинность» и царское достоинство; делая это, он вместе с тем вовлекался в постепенно разраставшееся противоречие с породившей и поддерживавшей его средой. Утверждаясь как «царь», он постоянно рисковал перестать быть в глазах народа народным царем.
Петр III царствовал коротко, но прожил в России достаточно долго. Значительное число казаков, солдат и просто крестьян видели его и могли судить по-своему, похож ли на него Е. И. Пугачев. Такие встречи происходили часто и, по-видимому, Е. И. Пугачев привык их не опасаться и даже поощрял своих «узнавателей» (мотив Н3). Он хорошо знал, что в случае неудачи всегда может объявить своего противника «изменщиком» и быстро расправиться с ним; удача же сулила ему чрезвычайно важное для него подтверждение его истинности.
Весьма характерный в этом случае эпизод имел место под крепостью Оса. Осажденные послали к Е. И. Пугачеву гвардейца, который видел Петра III в Петербурге, чтобы выяснить, подлинный ли царь со своим войском осадил их крепость. Встретившись с Е. И. Пугачевым, вышедшим ему навстречу, гвардеец после некоторого сомнения признал его, вернулся в крепость, и крепостные ворота открылись.[496]
Казак П. А. Пустобаев рассказывал на допросе, что большую роль в укреплении его веры в Пугачева сыграл старшина Я. Витошнов, который видел настоящего Петра III и многократно публично заявлял, что Пугачев и Петр III несомненно одно и то же лицо.[497] Пугачевский полковник И. Н. Белобородов показал, что для него такую же роль сыграл гвардейский унтер-офицер М. Т. Голев и солдат Тюмин. Первый из них говорил: «И я-де потому больше ево знаю, что когда находился в гвардии, то во время учения бивал из своих рук и пришиб к ружью персты, отчего-де имею знаки».[498] И. Н. Белобородов сам тоже бывал в Петербурге, но, не узнав в Пугачеве Петра III, поверил Голеву и Тюмину. О Голеве рассказывал и астраханский сотник В. В. Горский. Е. И. Пугачев спрашивал при нем старого унтер-офицера: «А что, Голев, много ли я тебя бивал, как был еще князем?». «Нет, батюшка, — отвечал Голев, — однова только вы ударили меня в грудь!». На вопрос Пугачева, где же это происходило, Голев сказал: «Да в Зимнем дворце, сударь, в те поры, как вы вели лейб-компанский корпус».[499]
Известно, что Пугачева — Петра III «узнали» казак Дубовский,[500] один татарский мулла, бывавший в Петербурге,[501] депутат комиссии по составлению нового уложения Перфильев[502] и др.
Утверждение, что если бы Е. И. Пугачев был самозванцем, его легко могли бы разоблачить люди, знавшие Петра III, играло большую роль в лагере восставших. Если правительство специально обсуждало, следует ли в официальных реляциях сравнивать Е. И. Пугачева с Григорием Отрепьевым, и пришло к выводу о рискованности этого сравнения, так как Лжедмитрию I удалось воцариться, то сторонники Е. И. Пугачева не боялись этого сравнения. В одном из полковничьих указов говорилось: «Вы ж, не видя, называйте Емельяном Пугачевым, а мы, видя, и свидетельствовали… Да и вы не дураки ли: Дмитрий царевич был весьма малолетен, а Гришка назвался уже взрослым; почему ж было можно опознать его? Как наш батюшка, всемилостивейший государь, уже не малых лет принимать изволил Россию; следственно, кого б я видал прежде, но и на всех послаться могу, что узнаю чрез дватцать лет, нежели чрез одиннадцать лет. И так, естьли отыщутся у вас благоразумные люди, рассудить могут, что и узнать можно».[503]
Одним из постоянных средств пугачевского самоутверждения были разговоры о сыне Петра III Павле, «воспоминания» о нем, толки о связи с ним и т. д. Ближние казаки добыли Е. И. Пугачеву портрет Павла. Яков Почиталин рассказывал на допросе, как Пугачев плакал, разглядывая портрет: «Вот-де я оставил ево малинькова, а ныне-де вырос какой большой, уж без двух лет дватцати; авось либо господь, царь небесной, свет, велит мне и видится с ним».[504] По свидетельству многих лиц, близко общавшихся с Е. И. Пугачевым, он постоянно провозглашал тосты за Павла и его жену великую княгиню Наталью Алексеевну.[505] Приехавшего из Петербурга депутата Перфильева Пугачев при всех расспрашивает о Павле. Тот же Перфильев кричит через несколько дней оренбургским казакам: «Я, Перфильев, который был в Петербурге и прислан оттуда к вам от Павла Петровича с тем, чтобы вы шли и служили его величеству Петру Федоровичу».[506] В лагере пугачевцев ходили какие-то смутные толки о том, что Павел собирается приехать к Пугачеву, с ним идет какая-то переписка, а в некоторых районах России, как мы уже писали, распространился слух о том, что Павел вместе с Н. И. Паниным и З. Г. Чернышевым уже у Пугачева под Оренбургом.[507] В этом же смысле истолковывалось и назначение Н. И. Панина.
Астраханский сотник В. В. Горский рассказывал на допросе 31 октября 1774 г.: «Когда были на Сальниковой ватаге у полковника Толмачева в гостях, Егор Кузнецов (брат Устиньи) говорил: „К нам-де скоро будет и молодой государь“. А как я его спросил: „Какой это молодой государь?“, то Кузнецов сказал: „Цесаревич-де Павел Петрович!“. Я еще спросил: „Да разве его высочество знаит, что батюшка его здесь?“. Кузнецов отвечал: „Батюшка-де к нему много раз писал, да все перехватывали письма, однако же дошло одно письмо, — но чрез кого — не сказал, — так-де цесаревич писал на это к батюшке, что он много от себя письма посылал да и генерала послал от себя (какого, не сказал), но также и генерал на дороге перехвачен“».[508]
И, наконец, под Красногорской крепостью башкирский отряд доставил человека, который якобы привез «Петру III» привет и подарки от Павла. Назвался этот человек Иваном Ивановым (Иваном Ивановичем) и сообщил, что в Нижнем Новгороде содержится для «царя» 60 пудов пороху. Е. И. Пугачев не рискнул высказать обманщику публичное недоверие, наградил его, но велел за ним присматривать (он назвал себя Остафием Трифоновым; в действительности оказался ржевским купцом Долгополовым). Когда «Иван Иванов» стал отпрашиваться в Казань и Нижний за порохом, Пугачев не велел отпускать его, говоря: «Поживи у меня, старик, ища будешь в Казане». Из Казани он его тоже не отпустил.[509] На допросе, специально ему учиненном в присутствии П. С. Потемкина, Е. И. Пугачев показал, что до этой встречи «Ивана Иванова» не знал и, «приняв подарки, не входил в подробности, от кого они были присланы, радуясь только тому, что сей доброхот сколь много преклонил к нему народа».[510] «Народу же разглашал он, Иван Иванович, — сообщил далее Е. И. Пугачев, — что государь цесаревич с войсками следует к Казани на помощь».[511] После переправы через Волгу «посланец от цесаревича» был отпущен в Москву и Петербург, как говорится в протоколе допроса, «дабы утвердить в мыслях невежд, что злодей не только не самозванец, но ожидает подкрепления себе».[512] Перед отъездом Долгополова из лагеря была разыграна еще одна сцена. «…Иван Иванович… спрашивал при всех, называя злодея высоким именем государя, как он велит приезжать его высочеству — одному или вместе с ее высочеством? А злодей ответствовал для обольщения народа: „Пускай приезжает вместе, и чтоб скорей из Петербурга выезжали“».[513]
Не достигнув ничего своей авантюрой в пугачевском лагере и едва вырвавшись из него, Долгополов из Чебоксар написал письмо кн. Г. Г. Орлову от имени Аф. Перфильева и 324 казаков с предложением выдать Е. И. Пугачева правительственным властям. Письмо это сыграло какую-то невыясненную до сих пор роль в истории пленения Пугачева.
Как видим, и в этом случае, следуя логике легенды, Е. И. Пугачев очутился в довольно рискованном положении. Он весьма нуждался в «узнавателях» (мотив Н3) и в раздувании слухов о его связи с Павлом, однако все это порождало ситуации, которыми он не мог управлять по своей воле, открывало простор действиям обманщиков и авантюристов.
И, наконец, упомянем еще об одном трагикомическом и вместе с тем характерном поступке Е. И. Пугачева. Во время захвата Оренбургского форпоста он был в церкви Георгия Победоносца. Здесь в порыве самоутверждения он сел на церковный престол и, плача, говорил присутствовавшим: «Вод, детушки! Уже я не сиживал на престоле двенадцать лет». Как сообщил позже на допросе М. А. Шванович, «…многие толпы его поверили, а другия оскорбились и разсуждали так: есть ли бы и подлинно он был царь, то не пригоже сидеть ему в церкве на престоле».[514]
Желание действовать согласно с легендой и плохая осведомленность о смысле и назначении церковного престола и его отличии от престола царского[515] заставили Е. И. Пугачева и в этом случае совершить неосмотрительный поступок, имевший для него двойственные последствия.
Легенда об императоре Петре III-«избавителе» сыграла огромную роль в крестьянской войне 1773–1775 гг. Так же как в годы восстания под руководством И. И. Болотникова, она объединяла массы восставших, была их знаменем, придавала цель, смысл и законность их действиям, была идеологической и правовой санкцией движения. Однако это было так, пока движение росло, ширилось и было успешным. Впрочем, и расширение его таило для Пугачева серьезную опасность, хотя бы потому, что шансы встретить людей, хорошо знавших его на Дону, в армии и т. д., росли. И тем более, как только Е. И. Пугачева стали постигать неудачи, особенно на третьем, заключительном этапе крестьянской войны (т. е. с июля 1774 г.),[516] легенда стала не только требовать рискованных, но сравнительно безобидных для общего хода дела поступков, — она вступила в прямое противоречие с действительностью и сыграла в истории крестьянской войны этого периода роль явно отрицательную.
Е. И. Пугачев в отличие от своих предшественников — вождей крестьянских движений И. И. Болотникова, С. Т. Разина, К. Булавина и других — лишен был возможности опираться на донское казачество. Обычно это объясняется тем, что правительство усиленно и бдительно контролировало Дон, говорится о предательской роли казацкой старшины и т. д.[517] Однако при этом забывается, что Е. И. Пугачев не мог появиться на Дону по той простой причине, что он сам был донским казаком и выдавать себя за Петра III здесь ему было совершенно невозможно. Уже под Царицыном донские казаки сразу же узнали его и это сыграло огромную роль в разрушении легенды или по крайней мере веры в Пугачева как Петра III. Пугачев решился на отчаянный шаг — сам рискнул спросить: «Нет ли Зимовейской станицы казаков?». Однако казаки из соседней станицы Есауловской тотчас узнали его.[518]
Правительство хорошо понимало необходимость не только преследований носителей легенды, но и разрушения самой легенды или выключения Е. И. Пугачева из нее. Как только поступили сведения о самозванце, принимаются меры к выяснению его имени, биографии, собираются сведения о его семье, подвергается допросу его жена С. Д. Пугачева, ей задается специальный вопрос о «знаках» на теле Е. И. Пугачева и т. д.[519] Впоследствии С. Д. Пугачева вместе с детьми, очевидно по распоряжению правительства, приезжает в Казань, чтобы обличить мужа, но оказывается захваченной пугачевцами. Для нее и ее детей по приказанию Е. И. Пугачева сооружается специальная палатка. Разумеется, ближние казаки интересуются личностью «Пугачихи» и тем, как к ней отнесется «царь Петр III». В протоколе допроса И. А. Творогова этот эпизод передается следующим образом: на вопрос: «Што бы ета была за женщина?» — Е. И. Пугачев отвечает: «Его-де друга моего Емельяна Иваныча, донскова казака, жена, он-де за мое имя засечен кнутом».[520] Во имя спасения легенды о царе Петре Е. И. Пугачев вынужден был создать еще одну легенду — о донском казаке Емельяне Пугачеве, у которого он, «царь Петр», скрываясь от преследований Екатерины II, якобы служил в работниках, именем которого он вынужден был некоторое время пользоваться и который погиб из-за него. Это давало Е. И. Пугачеву право возить жену и детей при себе, что было все-таки безопаснее, чем отдать их снова в руки правительства. В допросе В. В. Горского разыскивается следующая сценка: когда он явился к Е. И. Пугачеву, тот спросил его: был ли он в Москве и что там слышно? Горский отвечал: говорят, что под Оренбургом Пугачев. «Самозванец рассмеялся и, указав на сидящего подле него по правую руку мальчика, говорил, трепав его по плечу: „Вот друг мой, Пугачева сын — Трофим Емельянович, после него остался, а его уже нет в живе“».[521] Естественно, что подобные обстоятельства в сочетании с военными поражениями должны были рождать сомнения в подлинности явившегося царя. По мере развития крестьянской войны их накапливалось все больше и больше.