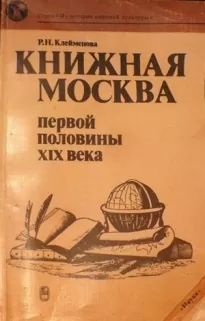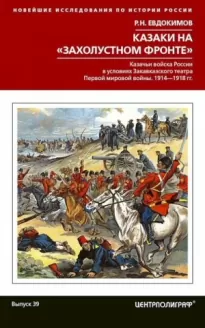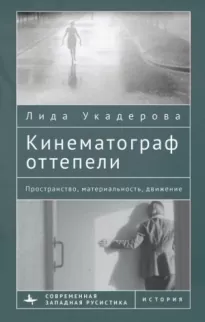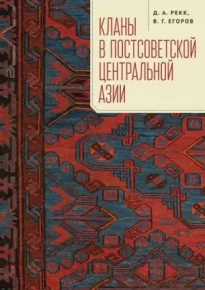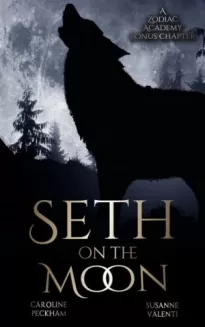Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)
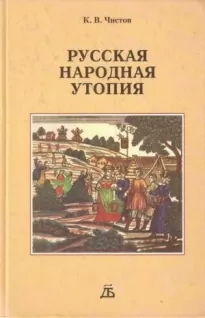
- Автор: Кирилл Чистов
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)"
И. Юзов в статье «Политические воззрения староверья» приводит список сатирического листка «Известия новейших времен». Он пишет: «Эти „Известия“ очень часто читаются ими (т. е. старообрядцами, особенно „бегунами“. — К. Ч.) и обыкновенно висят на почетном месте около образов, вклеенные в рамку и под стеклом. Пишутся они печатными славянскими буквами: первая половина каждой фразы красными, а вторая черными чернилами:
Грех — умер.
Правда — пропала.
Истина — охрипла.
Совесть — хромает.
Кредит — обанкрутился.
Вера — в Иерусалиме осталась.
Надежда — на дне моря с якорем.
Любовь — больна простудою.
Невинность — под спудом.
Добродетель — таскается по миру.
Благодеяние — под арестом.
Помощь — оглохла.
Совет — с ума сошел.
Честность — умирает с голоду.
Кротость — в горячке.
Искренность — убита.
Правосудие — в бегах.
Справедливость — из света выехала.
Благодать — на небо взята.
Труд — питается милостынею.
Ум-разум — на каторжной работе.
Закон — лишен прав состояния.
Терпение — осталось одно, и то скоро лопнет.
Аминь».[747]
Здесь в такой же мере, как в представлении об «антихристе», проявляется всеобъемлющая широта и энергия отрицания, которая была свойственна «бегунам». Фантастический образ «антихриста» становился в трактовке «бегунов» синонимом феодальных отношений вообще.
Один из основных догматов «бегунства» — «брань с антихристом», т. е. борьба с этим обществом. В послании Евфимия говорится: «Спасется лишь непокоривыйся мучителю: до самого дне судного непокоривым быти антихристу повелено».[748]
По мнению одного из бегунских «учителей» Н. С. Киселева, дело обстоит столь серьезно, что чисто обрядовые расхождения с господствующей церковью (шести- или восьмиконечный крест, двуперстное или трехперстное знамение и т. д.), которые столь упорно отстаивались старообрядцами, уже несущественны. Самое большое преступление, — утверждает он, — «житие, согласное с мыслью антихриста».[749]
Все это вместе с тем не значит, что «бегуны» намеревались вступить в вооруженную борьбу с правительством, как это полагал А. П. Щапов. «Брань» понималась ими прежде всего как непокорение и обличение, ибо вера «с замкнутыми устами», как писал «бегун» Василий Московин, «мертва». «Бегуны» с фанатическим упорством вели противоправительственную, противоцерковную, противокрепостническую, противорекрутскую и т. д. пропаганду. Активность обличительной пропаганды, активная агитация за вовлечение новых членов в секту, а не просто спасение собственных душ, составляли одну из основных особенностей «бегунства».[750]
Несмотря на весь свой фанатизм, «бегуны» все же вынуждены были идти на существенные компромиссы. «Страшливым» разрешалось не «вступать в брань», а просто «бегать».[751] При преемниках Евфимия Ирине Федоровой и Петре Крайневе «бегуны» стали делиться на три разряда — кроме полноправных членов секты, существовали так называемые «оглашенные», проходившие испытательный срок до «крещения», и странноприимцы — «жилые христиане», обязанностью которых было, не объявляя своей принадлежности к секте, содержать пристанища для «бегунов», кормить и одевать их, заботиться об общем имуществе. Им разрешалось «телесно», но не «духовно» подчиняться властям.
Этот компромисс означал поражение утопического стремления поставить себя вне общества и государства. Существование самих «бегунов» вне закона, власти и церкви требовало поддержки «жилых», которые, правда, сохранили обязательство под конец жизни пуститься в бега, умереть не под крышей собственного дома. Вместе с тем «жилым», которые, вероятно, могли вербоваться и из более зажиточной части деревни, не разрешалось ни «учительствовать», т. е. руководить сектой и ее ответвлениями («странами»), ни даже присутствовать на «соборах» с правом голоса. Это предохраняло секту от захвата власти «жилыми».
Липранди, составивший для правительства, встревоженного «сопелковским делом» в Ярославской губернии, «Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект, как в религиозном, так и в политическом их значении», разделил все ветви раскола и секты на две группы: «ожидающих заслужить себе блаженство в будущей жизни» и «ожидающих своему лжеучению торжества и в настоящей жизни» и решительно отнес «бегунов» к числу последних. «Первая из этих общин есть чисто религиозная, вторая политическая», — писал он.[752]
Бессмысленно было бы через сто с лишним лет полемизировать с Липранди. Мы отметим лишь, что спор о «бегунах» и о расколе вообще, который продолжался в русской печати с 60-х годов XIX века до начала XX в., обнаруживал подчас в большей мере тенденции спорящих, чем действительное существо дела. Левое крыло споривших (Щапов, Аристов и др.) утверждало политический характер раскола, правое (Никольский, Шедо-Феротти) — религиозный. Первые из них, желавшие видеть лишь политическую сторону дела, подчас смыкались с чиновниками, стремившимися побудить правительство к решительным мерам против раскола. Как те, так и другие обычно переносили какие-то качества крайних (то крайне левых, то крайне правых) ответвлений старообрядчества на весь раскол. Между тем заволжских старообрядческих купцов («половцев» и «австрийцев») и левые крестьянские ответвления раскола («бегунов», «неплательщиков», «лучинковцев» и др.) разделяло столь многое, что недифференцированное рассмотрение раскола совершенно бессмысленно. Что же касается «бегунов», то для правильного истолкования смысла их учения и практической деятельности важно не противопоставлять социальные и политические моменты моментам религиозным, а понять их своеобразное единство.
Во всех работах о «бегунах» ничего не сообщается о какой-либо специфической обрядности, созданной ими, кроме «крещения», которое состояло в торжественном уничтожении паспорта и других официальных документов и проклятиях государству, царю, церкви, чиновникам, армии. В остальном «бегуны» придерживались традиционных догм и форм, созданных до них «филипповцами» и «федосеевцами».[753] Их объединяло и вместе с тем отличало от других ответвлений старообрядчества крайне враждебное, бескомпромиссное отношение к тогдашней действительности — «антихристу».
В статье «Краткая заметка о странниках или бегунах» И. С. Аксаков писал: «Независимо от идеи первоначального своего происхождения, секта странников обратилась в религиозное оправдание бродяжничества и бегства вообще. Бежал ли солдат из полку, крепостной мужик от барщины, молодая баба от мужа — все православные — они находили оправдание своему поступку в учении странническом, которое возводило бродяжничество в догмат, звание беглого в сан».[754]
Еще меньше можно было бы подозревать «бегунов» в сознательной маскировке политических убеждений и политической деятельности. Они были крестьянами своего времени, религиозными и вместе с тем видевшими в расколе протест против официальной церкви. Они мечтали не о переделке общества, а о выпадении из него и в их учении следует видеть не только антифеодальный протест, но и историческую ограниченность, консерватизм и антиобщественный, анархический характер его.
Именно поэтому исторически вполне закономерен распад «бегунства» как самостоятельного движения по мере приближения эпохи русских революций 1905–1907 и 1917 гг., когда крестьянство вслед за рабочим классом поднялось на штурм и капитализма, и уживавшихся с ним феодальных пережитков.
С исторической точки зрения самым существенным в движении надо признать то, что свойственный им пафос отрицания феодальной действительности, их ненависть к угнетателям и всей системе угнетения, их осознание невозможности жить по-старому были близки значительному большинству российского крестьянства периода кризиса феодализма и реформ 60-х годов XIX в. «Бегуны» отличались от других слоев крестьянства только последовательностью своего отрицания и тем, что ненависть возводилась ими в религиозный принцип. Поэтому их пропаганда, их тайные листки, песни, легенды активно воспринимались крестьянскими массами, не принадлежащими к секте, даже не принадлежащими к старообрядчеству или сектантству вообще, которые тоже составляли, кстати говоря, заметную часть русского крестьянства.[755]
В отличие от так называемых мистических сект — духоборов, молокан и др., — учивших, что «царство божие» находится «внутри нас» и его нужно всячески оберегать, а не искать во внешнем мире, что необходимо думать о самосовершенствовании и спасении собственной души, «бегуны» по-крестьянски жаждали «царства божьего» на земле. Одному из основных своих тезисов — «града настоящего не имамы, а грядущего взыскуем» — они придавали вполне реальное, практическое выражение.
Иногда эти мечты приобретали, несмотря на свою приземленность, религиозные, эсхатологические формы: близок конец мира, придет спаситель на белом коне, сотворит брань с антихристом (в этой брани «бегуны» будут в первых рядах его воинства) и установит после победы над ним тысячелетнее царство справедливости. «Бегунов», однако, не удовлетворяло абстрактное толкование Апокалипсиса. Они вносили в него свои поправки и свою конкретизацию: все это должно произойти в самое ближайшее время и тысячелетнее царство будет совсем рядом, в районе Каспийского моря. Поэтому, не дожидаясь событий, «бегуны» стремились в Астраханскую губернию, селились в «камышах», рыли там землянки для того, чтобы быть поближе к территории будущего «тысячелетнего царства» и вместе с тем уже сейчас уйти из-под опеки начальства.[756] Об этом бегстве к Каспийскому морю говорит и популярная у «бегунов» пословица: «Коль захочешь в камыши, так паспорта не пиши, а захочешь в Разгуляй (т. е. Астрахань. — К. Ч.), и билет не выправляй».[757]
В литературе по русскому старообрядчеству XIX в. отмечалась роль «бегунов» в создании легенды о граде Китеже; это было убедительно подтверждено в советское время в обстоятельном исследовании В. Л. Комаровича.[758] «Бегунам», судя по всему, были хорошо известны религиозно-утопические легенды о Млевских монастырях, о Жигулевских горах и других легендарных «сокровенных» местах, где якобы сохраняется возможность спастись от «антихриста». Практичный и трезвый, в целом мало склонный к мистицизму крестьянский ум должен был искать более реальных вариантов осуществления социальных (а вместе с тем и религиозных) чаяний и более реальных целей и маршрутов «бегства». Вместе с другими крестьянами «бегуны» бежали в европейские и сибирские казачьи районы, несмотря на то, что, уже в начале XVIII в. не только власти, но и сами казаки стремились препятствовать этому движению; они бежали в северные леса, мало освоенные администрацией; они принимали активное участие во все нараставшем ко второй половине XIX в. переселенческом движении; наконец, бежали к зарубежным казакам-некрасовцам в Болгарию и Турцию и т. п. На первых порах на новых местах удавалось устроить жизнь на общинно-артельных, т. е. единственно справедливых по крестьянским представлениям началах. Это порождало определенные иллюзии, идеализацию вольных земель без начальства и без социального неравенства, а вслед за этим — слухи, рассказы, песни, легенды, предания о привольной жизни на новых местах. Одной из таких легенд была и интересующая нас беловодская легенда.