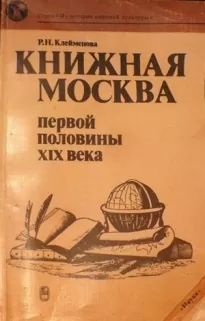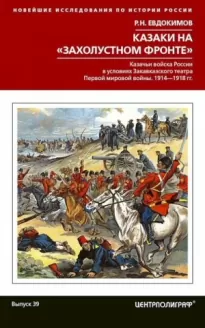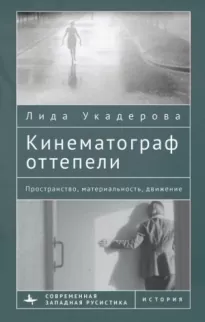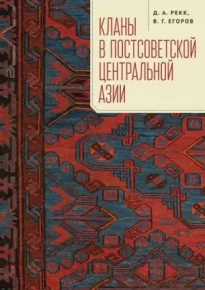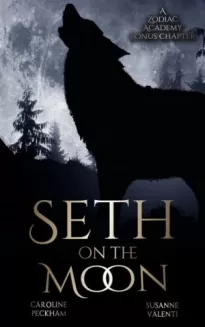Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)
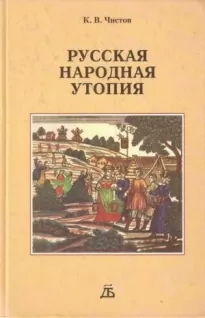
- Автор: Кирилл Чистов
- Жанр: Культурология
- Дата выхода: 2003
Читать книгу "Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд)"
В списках первой редакции авторство приписывается Марку Топозерскому. Кто этот Марк и существовал ли он в действительности — установить невозможно. В известных нам документах несколько раз упоминаются «бегуны», носившие это имя, но их отношение ни к «Путешественнику», ни к Топозеру не поддается выяснению.[776] «Бегуны» избегали официальной регистрации и поэтому известны имена только тех из них, которые попадали в руки царского правосудия или упоминались в рукописях, составленных самими «бегунами».
Примечательно, что этот неизвестный нам Марк — фигура, возможно, легендарная[777] — связывается в «Путешественнике» с Топозером, называется иноком Топозерской обители.
Между тем роль Топозера в истории «бегунства» не подлежит сомнению. Тем самым это еще раз подтверждает участие «бегунов» в создании и распространении этого документа и устанавливается факт бытования беловодской легенды на территории Олонецкой губернии.[778]
«Путешественник», подробно описывая путь в Беловодье, вместе с тем очень кратко сообщает сведения об этой легендарной стране и стремится убедить читателей отправиться на ее поиски, ссылаясь на пример Марка и его спутников, сумевших достичь Беловодья. Имея в виду легендарность Беловодья, мы, разумеется, меньше всего могли бы ожидать подробного описания его государственного, политического, религиозного, общинного и семейного устройства. Стихийная политическая мысль крестьянства никогда не поднималась до высот политического предвидения, не формировалась в более или менее четкую политическую концепцию. Неопределенность и негативность политического идеала была характерна даже для наиболее выдающихся крестьянских движений, выдвигавших своих вождей и пытавшихся устно и письменно формулировать свои требования (например, восстания, возглавленные С. Т. Разиным, К. А. Булавиным, Е. И. Пугачевым).
В «Путешественнике» рассказ о Беловодье выливается в некую общую формулу — негативную и условную по своей природе. Расположено Беловодье за высокими горами на краю земли; по сведениям, сообщаемым первой и второй редакциями, на берегу «окияна-моря»; по сведениям третьей редакции, за морем («двенадцать суток ходу морем и три дня голодной степью»). В списках первой и второй редакций жители Беловодья живут на 70 больших островах, «а малых и исчислить невозможно»; в третьей редакции об островах прямо не говорится, но и здесь Беловодье мыслится как страна, отделенная морем.
Островное положение легендарной страны не случайно. Остров — географическое и вместе с тем поэтическое выражение идеи отдаленности и отъединенности, независимости от ненавистной действительности феодально-крепостнической России, жизни за пределами государства. Поэтический образ страны благополучия, расположенной на острове, свойствен фольклору многих народов и генетически восходит, вероятно, к представлениям об острове, на который переселяются души умерших предков, либо первоначально — к представлению о параллельном существовании двух, трех и более миров, которые эпизодически сообщаются друг с другом.[779] В дальнейшем своем развитии представление об острове — другом мире в ряде случаев дает материал для поэтического оформления социально-утопических легенд и социально-утопических учений (от Венета, Офир, Туле, Рунгхольд, Атлантида до «Острова Утопии» Мора и «Острова Солнца» Кампанеллы и т. д.).[780] Поэтический образ острова, выключенного из сферы действия дурных социальных закономерностей, получал в процессе исторической жизни эпизодические подтверждения, способствовавшие закреплению его в сознании народа (Запорожская Сечь, расположенная на о. Хортица, монастырь на Соловецких островах — первый опорный пункт старообрядчества, поселение казаков-некрасовцев на о. Майносе, «бегунский» скит на о. Жилом на Топозере и т. д.).
«Путешественник» подтверждает, что жители Беловодья «в землю свою никого не пущают». Очевидно, речь идет вовсе не о том, к кому обращен «Путешественник» и кого он призывает разыскать чудесную страну. Беловодье запретно только для тех, кто хотел бы нарушить беловодские порядки и беловодское благополучие — царских чиновников, полицейских, судей, попов.
Особенно кратко и выразительно формулируют свое отношение к общественному устройству Беловодья списки второй редакции «Путешественника»: «А тамо антихрист не может быть и не будет», т. е. не будет всего, что есть в России — царя, армии, помещиков, податей и поборов, чиновников, паспортов и денег с антихристовой печатью, никонианских попов и т. д. Более того, там вообще нет никакой светской власти, вообще никакой государственной организации: «светского суда не имеют» (M-П., ИРЛИ-2 и ИРЛИ-3); «светского суда у них несть» (ИРЛИ-1).[781] Единственное, что там есть — это «духовные власти», которые мыслятся, видимо, во вполне идеализированных и демократических формах (см. в третьей редакции: «и все служат они босы»). Это не значит, что автор «Путешественника», его читатели и распространители мечтали о теократическом, клерикальном государстве. Беловодье рисовалось им как государство без государственной организации, как союз мелких, равных производителей без какой-либо власти, стоящей над ними. Такое устройство представлялось гарантией от всякой «татьбы», «воровства» и «пакостей» или чего-либо «противного закону», т. е. всякого гнета, насилия и государственно организованного грабежа. Духовенство, причем не официальное «великороссийское» и «никонианское», а свое, старообрядческое, сохраняющее «древлее благочестие» и ведущее свою линию от каких-то восточных ветвей православия, было, естественно, элементом крестьянской социальной утопии, целиком средневековой по своей природе и своему характеру. Ведь и все Беловодье мыслилось как страна, в которой живут по «божецкому закону».
Наличие духовенства в Беловодье вместе с тем еще не означает, что оно мыслилось организованным в иерархическую, регулярную церковь. Бегуны отрицали всякую организацию как возможный источник угнетения. Известно, например, что в 1863 г. один из крупнейших бегунских наставников Н. С. Киселев написал свои «Статьи» — своеобразный документ, в котором предлагал создать стройную систему управления сектой. Однако этот проект на большом Нижнетагильском «соборе» 1864 г. не был принят, и секта осталась анархической организацией.[782]
Беловодье не знает войны («и войны ни с кем не имеют»), следовательно, не знает солдатчины и рекрутчины и тем не менее беловодские жители «никого к себе не пущают». Этому явному противоречию «Путешественник» находит своеобразное объяснение: так возможно потому, что «отдаленная их страна». В этом сказалось наивное и трагическое по своей неосуществимости стремление уйти так далеко, чтобы не знать ни властей, ни гнета, ни войн, ни православных попов, лишающих даже возможности «спасения».
Характерно, что Беловодье мыслится как страна, заселенная выходцами из России и из западных стран; и те и другие бежали от религиозных преследований; от папы (народы «сирского языка») или от «никониан» (народы «российского языка»). В одном списке, опубликованном А. П. Щаповым, говорится: «от пана гонимы из своея земли». Можно было бы предположить, что переписчик или сам Щапов ошиблись, тем более что в списке ГИМ читается в той же позиции: «от папы римского гонимы были из своей земли». Однако и сама эта ошибка, если она только не принадлежит Щапову, могла быть не случайной (ср. в песне «бегунов»: «Убежали мы на волю от худого господина…»).
Беловодье расположено у «окияна-моря» на 70 островах; оно покрыто густым вековым лесом: «Тамо древа равные с высочайшими древами» (М-П); «Тамо древа с высочайшими горами ровняются» (ИРЛИ-1 и ИРЛИ-2). Климат ее рисуется своеобразно: «Во время зимы морозы бывают необычайные с расселинами земными» (ср. ИРЛИ-1, ИРЛИ-2 и ИРЛИ-3). Представление о стране благоденствия, как о стране, покрытой дремучими лесами, где стоят суровые морозные зимы, могло возникнуть только в сознании севернорусского крестьянства. В списках второй редакции, вероятно, происходящих из центральных или восточных губерний Европейской части России, это место читается иначе: «А тамо леса темная, горы высокия, расселины каменныя» (ГИМ); «И во оном месте леса темные, горы высокие, расселины каменные» (Щ.). О морозах здесь не говорится ни слова.
И, наконец, «Путешественник» говорит о плодородии земель и о богатстве жителей Беловодья, причем во всех известных нам списках эти мотивы выражены в традиционных формулах: «А земные плоды всякия весьма изобильны бывают; родится виноград и сорочинское пшено[783] и другие сласти без числа, злата же и сребра и камения драгого и бесеру зело много, ему же несть числа, яко и умом непостижимо» (ИРЛИ-2, сходно ИРЛИ-1 и ИРЛИ-3).
Отметим еще две характерные черты. Беловодье мыслилось, вероятно, сельской, крестьянской страной: «Есть и люди и селения большие… А за рекой другое село» (Б.). Однако есть там и города: Скитай (?) (ИРЛИ-1), Кабан (М-П).
Маршрут, который рекомендуется избрать, начинается у Москвы, Казани и Екатеринбурга и теряется где-то в легендарных далях Беловодья. Где же здесь кончаются реальные представления, где и как осуществляется этот переход от реального к легендарному?
Следуя за маршрутом через Казань, Екатеринбург, Тюмень до Бийска и потом вверх по р. Катуни, мы вступаем в б. Горноалтайский округ. Здесь обнаруживаются некоторые расхождения и неясности. Списки первой редакции (ИРЛИ-1, ИРЛИ-2 и ИРЛИ-3) дальше говорят о Краснокуте, который не отыскивается на доступных нам картах юго-западного Алтая. Список М-П1 называет после Каменногорска, Выбернума (?) и Избенска (?) Красноярск. Списки ГИМ и Щ. — Краснодар и Красный Яр. Единственный список сибирского, точнее алтайского, происхождения (Б.) после Бийска советует двигаться по Смоленской волости. Что же из всего этого соответствует реальной топографии Алтая? Прежде всего нужно отвести Краснодар, возникший здесь по простому созвучию, и г. Красноярск, стоящий явно вне основного маршрута на р. Енисее. На карте Алтая отыскивается несколько близких названий — дер. Красный Яр на р. Каменке между Бийском и с. Смоленским и дер. Красноярка, стоящая в предгорьях Тигрецкого хребта, невдалеке от Кумира — притока р. Чарыш, впадающей в Обь между Барнаулом и Бийском. Южнее этой деревни, но тоже с восточной стороны Тигрецко-Коксуйского хребта течет р. Красноярка — приток р. Коксу, впадающей в Катунь. Вероятнее всего «Путешественник» изначально имел в виду Красный Яр Смоленской волости, так как именно о Смоленской волости говорится в списке третьей редакции.[784] Кроме того, если иметь в виду дер. Красноярку Тигрецкую, то становится непонятным, зачем далее надо переходить Тигрецкий хребет на восток для того, чтобы, достигнув дер. Устьубы, которую называют все списки, снова через какой-нибудь из Тигрецко-Коксуйских перевалов двигаться на восток до Уймона (Уйменской, Умойской и т. д.), расположенного в долине верхнего течения Катуни, вместо того, чтобы из Красноярки прямо направиться на Уймон. Если же принять смоленский вариант, то можно предположить, что двигаясь через Красный Яр и с. Смоленское, желавшие достичь Беловодья обходили Алтайские горы с севера и запада и шли этим путем до дер. Устьубы, расположенной при впадении р. Убы в Иртыш. После этого они, вероятно, двигались по долине р. Убы или какого-нибудь из ее притоков и переваливали через Тигрецко-Коксуйский хребет с запада на восток, чтобы затем по долине р. Коксу и Катуни достичь Уймона.