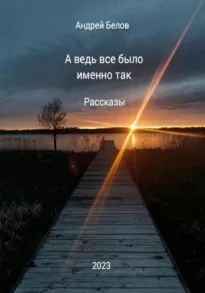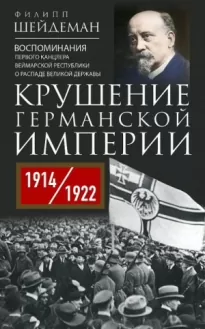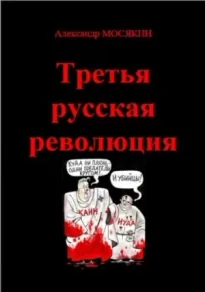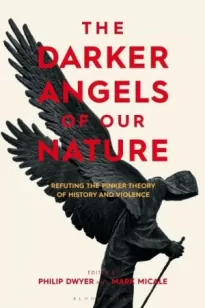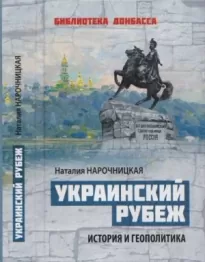Утопия на марше. История Коминтерна в лицах
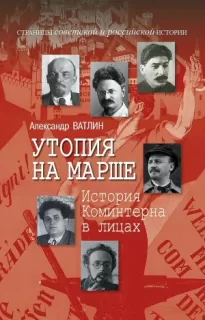
- Автор: Александр Ватлин
- Жанр: Биографии и Мемуары / Политика и дипломатия / История: прочее
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Утопия на марше. История Коминтерна в лицах"
4.9. Голос из ссылки
Иногда в судьбе того или иного политического деятеля решающую роль играют события, в которых он сам не принимает непосредственного участия, таким событием для Троцкого стал Пятнадцатый съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1927 года. Он открыл для него не только 1928 год, но и весь последний отрезок жизни. Сталинский секретариат не решился вынести конфликт с «объединенной оппозицией» на партийный форум, более того, ее представителям было даже запрещено апеллировать к нему. В отличие от предыдущего этот съезд выглядел уже хорошо отрепетированным спектаклем, призванным придать официальный статус итогам «горячей осени» 1927 года, в которых нашло отражение преимущество аппаратной сплоченности перед ораторским популизмом.
Оппозиция подготовила к съезду собственный подарок — «Платформу большевиков-ленинцев», в которой были собраны воедино все претензии к сталинскому руководству ВКП(б). Ее лидеры разбирали причины той полосы поражений, с которой партии Коминтерна столкнулись в последние годы. Эти причины виделись в «меньшевистской тактике большинства», которое уверяло коммунистов всех стран в прочном характере стабилизации капитализма, пыталось заигрывать с социал-демократами и Гоминьданом. В кадровом плане «тактика огня налево» привела к захвату руководства Коминтерна «правыми элементами», которые ведут дело к его расколу[1079]. Фактически оппозиционеры воспроизводили историю августа 1914 года, когда Второй Интернационал не смог противостоять искушению входивших в него партий поддержать в разгоравшейся мировой войне правительства своих стран.
Не последние роли были отведены на Пятнадцатом съезде и представителям Коминтерна. «Поведение оппозиции есть или святотатство, или безумие, — говорила с трибуны Клара Цеткин, — она поднимает руку на великое бессмертное дело социалистического строительства. Она посягает на единство партии. Партийные массы, огромные массы членов партии отклонили предложение оппозиции, и тогда она с беспримерной дерзостью апеллировала к беспартийным массам. Это показывает, что оппозиция отошла от ленинизма. Она скатилась к социал-демократизму, она скатилась к русскому меньшевизму»[1080]. Как в выступлении Цеткин, так и в докладе председателя ЦКК Серго Орджоникидзе выдвигалось обвинение, что оппозиционеры пытаются, используя коминтерновские структуры, наладить связи со своими единомышленниками в других партиях. «Оппозиция, несмотря на обязательства, взятые на себя, не прервала связи с группой Маслова — Рут Фишер и других исключенных из Коминтерна»[1081].
Президиум XV съезда ВКП(б) на его последнем заседании
19 декабря 1927
[РГАСПИ. Ф. 56. Оп. 2. Д. 58. Л. 106]
Сами оппозиционеры, напротив, демонстрировали полное раскаяние. В письме 121-го исключенного, подписанном среди прочих Троцким, Зиновьевым и Каменевым, единство партии ставилось превыше всего («ни на раскол, ни на вторую партию мы не пойдем»). В обмен за прекращение фракционной деятельности они требовали восстановления в партийных рядах, и такая процедура предполагалась к распространению на все секции Коминтерна. Получалась парадоксальная ситуация — отстаивая иное мнение в ВКП(б) и Коминтерне, «объединенная оппозиция» отрицала использование для этого демократического механизма политической борьбы, отождествляя его с возвратом к «буржуазной демократии». Складывается впечатление, что появления «второй партии» она боялась еще больше сталинского большинства, активно использовавшего этот жупел, несущий в себе, по общему мнению обеих соперничавших фракций, угрозу диктатуре пролетариата.
Рука примирения была протянута в пустоту. Решение съезда, квалифицировавшее оппозицию как «вспомогательный отряд социал-демократии», по сути дела, являлось синонимом обвинений в «прислужничестве мировому капиталу», которые после 1917 го-да адресовались большевиками своим вчерашним союзникам по социалистическому лагерю. Выросшее из революционного экстремизма признание любого мнения, не согласующегося с генеральной линией правящей партии, контрреволюционным становилось нормой политического поведения первого поколения сталинской номенклатуры. Отныне любая фракционная деятельность внутри ВКП(б) рассматривалась как уголовное преступление и попадала в компетенцию политической полиции — ОГПУ.
Внешне Коминтерн выступал в качестве независимого судьи в определении истины и в оценке итогов внутрипартийной борьбы в ВКП(б). Однако к 1928 году это превратилось уже в простое чтение заученной роли. Фактом было то, что секции не имели даже документов для ознакомления с ситуацией в ВКП(б), ибо любое распространение материалов оппозиции трактовалось как пропаганда ее взглядов и влекло за собой исключение из партии. Троцкий перешел к тактике директивных писем, которые рассылались его сторонникам в стране и за рубежом. В первом из них выдвигался тезис о «вынужденно пролетарском» характере советского государства, незавершенность буржуазного перерождения которого предопределена незавершенностью мировой революции. Установка давалась предельно ясная: «Надо бить по руководству ВКП(б), не противопоставляя себя СССР».
Не менее четкой была и реакция этого руководства — 17 января 1928 года Троцкий, когда-то один из лидеров партии и руководителей советского государства, был отправлен в административную ссылку. Таинственные обстоятельства самого отъезда, попытки сторонников оппозиции провести прощальную демонстрацию на вокзале дали богатый материал для буржуазной и социал-демократической прессы. Коммунистическая печать, поспешившая опровергнуть очередную «утку», последней напечатала сообщение о ссылке Троцкого, которая никак не укладывалась в представления европейских коммунистов о приемах и методах внутрипартийной борьбы.
Это нашло свое отражение в работе Девятого пленума Исполкома Коминтерна, открывшегося 9 февраля 1928 года. Выступивший с докладом по вопросу об оппозиции в ВКП(б) Бухарин изобразил произошедшее в самых розовых тонах. Якобы Троцкому была предложена работа в Астрахани, но тот отказался, назвав это предложение скрытой ссылкой. Процитируем Бухарина: «Я требую, — сказал он, — чтобы меня открыто сослали либо в Гагры, либо в Кисловодск. Решающую роль здесь играли, конечно, соображения не медицинского, а организационного характера. Целью было: создание центра со связями во всех направлениях. Притягивали Троцкого не пальмы, а возможность вести подрывную работу в столь благоприятных условиях. Затем мы сочли нужным опять-таки предложить ему отправиться куда-нибудь в другое место. Но он опять отказался. Потом Троцкий предложил отсрочить его отъезд. Мы исполнили его желание. Но затем мы узнали, что троцкисты хотят использовать это время для новых выступлений в связи с отъездом Троцкого. Поэтому отъезд был ускорен»[1082]. Сам Троцкий свою отправку в Алма-Ату рассматривал как почетное и недолгое изгнание, нечто вроде царской опалы. В своих первых письмах из ссылки он с увлечением рассказывал о творческих планах, сетовал на хозяйственные неурядицы, прикидывал перспективы охоты в Илийской долине.
Административное решение конфликта в ВКП(б), воспринимавшегося как борьба Сталина и Троцкого за лидерство в партии, вызвало неоднозначную реакцию за рубежом. Если правая пресса рассматривала ссылку Троцкого как закономерный этап деградации «диктатуры максималистов», то социал-демократические газеты давали негативную оценку этому факту как новой дискредитации социализма советского образца. 2 февраля 1928 года от имени Социалистического рабочего интернационала к М. И. Калинину обратились председатели комиссии по изучению положения политзаключенных Луи де Брукер и Артур Криспин. В их письме говорилось: «Все эти годы Вы ссылали и бросали в тюрьмы сотни убежденных, искренних социалистов, а на вопрос о причинах этих преследований Вы отвечали вымыслами об их контрреволюционной деятельности. Это обвинение было, как доказано уже сотнями случаев, прямой клеветой на лиц, пожертвовавших свою жизнь делу рабочего класса. В случае Вашей нынешней партийной оппозиции Вы уже не сможете применить эту обычную клевету о „контрреволюционерах“ по отношению к членам Вашей собственной партии. Хотя мы отнюдь не придерживаемся мнения, что мысли и дела людей вроде Льва Троцкого в последние десять лет были благодеяниями для рабочего класса, мы никогда не будем отрицать, что он был убежденным революционером, и Вы тоже не сможете этого отрицать. Поэтому преследование Вашей собственной оппозиции в партии и особенно дело Троцкого стало типичным примером Вашей системы, не допускающей свободы мнений и подчиняющей все диктату Вашего абсолютистского правительства»[1083].
Оказавшись в Алма-Ате, Троцкий засел за мемуары. В переписке с Радеком он делился их главной идеей — череда поражений последних лет на арене мировой революции была вызвана отсутствием правильного и выдержанного курса Коминтерна. «Надо ребром поставить вопрос об убийственных ошибках начиная с 1923 г.»[1084]. В Казахстане наш герой был отрезан от источников достоверной информации, т. е. «закрытых рассылок», которые получала партийная верхушка. Ему приходилось довольствоваться «Правдой» и письмами своих сторонников, которые пробирались в Казахстан сквозь препоны ОГПУ. Это сказалось на глубине оценок внешне- и внутриполитических событий 1928 года, хотя одновременно лидер оппозиции получил возможность больше времени уделять изучению теоретических и практических вопросов.
Центром его внимания оставалась китайская революция, переживавшая в тот момент драматическое завершение. Декабрьское восстание в Кантоне, развязанное без должной подготовки под давлением эмиссаров Коминтерна, завершилось полным поражением и кровавыми репрессиями по отношению к коммунистам[1085]. Глядя на любое событие сквозь антисталинские очки, Троцкий и в этом восстании увидел крах умеренной линии большинства, которая на деле оказалась «бессодержательной фикцией, пустышкой».
И вновь масштабом всех вещей оказывалась Российская революция. «Можно сказать, что Китай не созрел для социалистической революции. Но это будет абстрактная безжизненная постановка вопроса. А разве Россия, изолированно взятая, созрела для социализма? Она созрела для диктатуры пролетариата, как для единственного метода разрешения всех национальных проблем; что же касается социалистического развития, то оно, исходя из экономических и культурных условий страны, неразрывно связывается со всем дальнейшим развитием мировой революции. Это относится целиком и полностью и к Китаю. Если 8–10 месяцев назад это был прогноз (довольно-таки запоздалый), то теперь это непререкаемый вывод из кантонского восстания». С высоты сегодняшнего дня подобные формулы выглядят как те же самые лозунговые «пустышки», в производстве которых наш герой так горячо обвинял своих оппонентов. Но на исходе 1920-х годов тезис о том, что коммунисты должны и могут возглавить широкое движение крестьянских масс в Китае, имел немалое мобилизующее значение[1086].