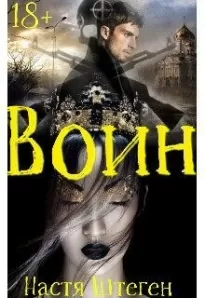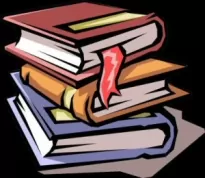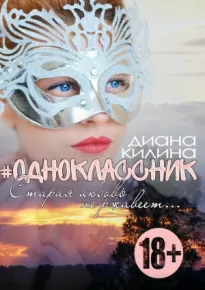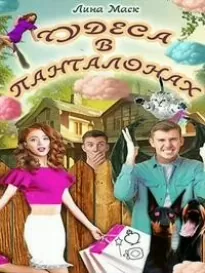Первый кубанский («Ледяной») поход
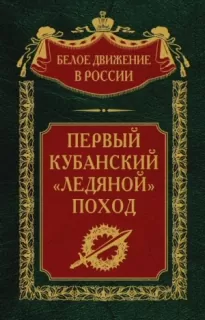
- Автор: Сергей Волков
- Жанр: Биографии и Мемуары / История: прочее
Читать книгу "Первый кубанский («Ледяной») поход"
Переход[196]
Наступающее сырое и хмурое утро наложило свою тяжелую и неприветливую печать на мерно шагающего перед строем взвода полковника Плохинского, и оба они не считают нужным скрывать свое отвратительное настроение, и у обоих имеются на то серьезные основания.
Скопление на небе хотя и невидимых за темнотой, но угадываемых, низко ползущих туч грозит окончательно испортить настроение утра и побудить его излить на голову ни в чем не повинного взвода все свое неудовольствие в виде мелкого и холодного дождя – по хорошо известному правилу: кому-кому, а куцему попадет!
Имеются свои серьезные основания и у полковника Плохинского: вот уже с десяток минут ждет он на сборном пункте опоздавшие туда 2-й и 1-й взводы и также угрожает обрушиться на голову того же несчастного «куцего».
Это напряженное состояние так и кончается, как было приведено. Первым не выдерживает утро: с неба начинают падать, все учащаясь и учащаясь, капли мелкого дождя, вполне достаточные для того, чтобы переполнить чашу терпения полковника Плохинского. Теперь наступает очередь «куцего», который, в образе прапорщика Кедрина, покорно принимает удары судьбы.
– Прапорщик Кедрин, вы сказали – приказание исполнено! Где же оно (следует скоромное слово) исполнено? Что ж ни один (следует скоромное слово) не собирается?
Здесь следует заметить, что употребление скоромных слов полковником Плохинским обозначает степень его раздражения, а также и то, что и в этой области он обладает большими и ценными знаниями.
Бедный Хромышкин (прозвище прапорщика Кедрина, конного ординарца и тяжелого инвалида) суетливо поворачивает своего Росинанта и исчезает в серой вуали идущего дождя, откуда вскорости появляется снова, с беспокойством в лице и в сердце и с обычной фразой:
– Господин полковник, приказание исполнено!
Проходит новый десяток бесконечно долгих минут, а обещанное явление все еще не состоялось. Слово в слово повторяется монолог полковника Плохинского, и жест в жест – торопливый отъезд Хромышкина, который, однако, на этот раз появляется в сопровождении двух опоздавших взводов.
Могуч и богат русский язык, но тот, кто не слышал в это утро высказанных полковником Плохинским необъятных знаний только в одной нелитературной части его, не может иметь о нем ни малейшего представления. Я и до сих пор удивляюсь стойкости капитанов Полякова[197] и Папкова[198], принявших на свои головы этот водопад словесности и не лишившихся сознания, и объясняю это только тем, что…
…были люди в наше время!
Не то что нынешнее племя,
Богатыри!.
После наскоро произведенного расчета и построения в походную колонну двинулась в степь 1-я рота. Хорошо быть в 3-м взводе, подальше от полковника Плохинского, хотя уже и облегчившегося, но все же представляющего из себя известную опасность, которую очень верно определил один еврей, декламировавший стихотворение Надсона: «Ну, пусть себе жаровня сковырнулась, а уголья еще жжуть!»
Правда, в редакции автора эта фраза звучала: «Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает», но дело не в редакции, а в том, что сама мысль была передана точно, а если таки вышла себе маленькая перепутаница, то нельзя же придираться ко всякой мелочи.
Итак – опять степь! Бесконечная широкая степь. Опять исполняют ноги свою нудную обязанность: шагать. Впрочем, не одни только ноги: исполняет ее и дождь, холодной струйкой проникающий за воротники шинелей, исполняют ее и носы идущих людей, ощущающие наступление в них оттепели, и ладони, пытающиеся уничтожить ее внешние признаки, и спины и плечи, которые в своем стремлении ввысь перерастают уши. Одним словом – весело! И долго-долго будет продолжаться это веселье, пока не подкрадется к идущей по дороге колонне сперва совсем маленькая, а потом все возрастающая и возрастающая отвратительная и ехидная тварь: усталость.
Ее поразительные способности, вскоре же после ее появления, позволят ей внести полный беспорядок в раз принятые и добросовестно исполняемые обязанности: ноги перестанут шагать и начнут волочиться, руки, занятые до сих пор уничтожением внешних признаков начавшейся в носах оттепели, будут крепко держать вдруг неизвестно откуда появившиеся нервы, стараясь не дать им лопнуть, оставленные без присмотра носы, лишенные возможности скрывать долее происходящий в них (химический или черт его знает какой) процесс, дадут ему возможность полного развития, а спины и плечи, отказавшись от желания перерасти уши, ударятся в другую крайность, а именно – будут стремиться опуститься до высоты бедер. И еще многое что произойдет, что даст возможность капитану Згривцу любовно сравнить свой взвод с мокрым курьем на нашесте!
Однако для предупреждения появления усталости давно уже выработана целая серия тактических приемов, и огонь по еще невидимому противнику открывается издалека:
– Да э-э-эх, да ы-ы-ых!
Этот устрашающий и нелепый возглас приводит в беспокойство взводного, который бросает тревожный взгляд на едущего впереди ротного, но, убедившись в том, что полковник Плохинский не собирается оскоромиться по адресу возопившего, успокаивается и сам. Через пять минут тот же могучий возглас оглашает степь:
– Да э-э-эх, да ы-ы-ых!
– Лингварду опять вожжа под хвост попала, – говорит Згривец, более для проформы, да и на случай, если взъерепенится полковник Плохинский.
Тем не менее это начало открытия военных действий в целях устрашения усталости увенчивается несомненным успехом, и после седьмого или восьмого «да э-э-эх, да ы-ы-ых» перестает тяжело сопеть прапорщик Штемберг, улыбается капитан Згривец, хохочет смешливый доброволец Платов и, пользуясь наступившим антрактом, готовится для приготовления второго действия веселый поручик Недошивин. Предвидя это действие и зная его наизусть, и все остальные собираются принять в нем участие в скромных ролях хористов.
Главную роль во втором акте играет прапорщик Вася Тихомиров[199], вокруг которого сосредоточивается многоголосый хор под управлением Недошивина, начинающий исполнять всем известную арию из всем известной оперы:
– У Васьки четыре ноги!
Но тут хор прерывается тоненьким голоском дисканта, не могущего допустить упущения хотя маленькой, но важной подробности:
– Пятый – хвост!
Хор начинает сначала и опять забывает упомянуть о хвосте, что тотчас же ставится ему на вид дискантом. В этой упорной борьбе между хором, видимо не желающим останавливаться на мелочах, и дискантом, считающим эту мелочь чрезвычайно важной, и состоит все второе действие, причем продолжительность его прямо пропорциональна числу остающихся верст, о точном количестве которых никто не имеет ни малейшего представления.
Героем третьего акта является прапорщик Игнатов[200], по прозвищу Архиерей, рассказывающий о своем обучении искусству чтения их сельским дьячком, по забытой теперь и, слава Богу, исчезнувшей системе, когда буквы именовались аз, буки, веди и т. д. и когда надо было сперва назвать имя буквы, затем другой, затем слога по именам букв, затем самый слог, и производить эту операцию до окончания фразы. Галиматья получалась удивительная. Но то, в чем состояла ее прелесть, было тоже не менее удивительно: Архиерей умел составлять такие фразы, которые не могли быть прочитанными – по старой системе – не только в присутствии барышень, но и более опытного дамского элемента, хотя в нормальном чтении имели самый безобидный характер.
Но кончился и третий акт, а все еще не кончилась степь, и вообще неизвестно, собирается ли она кончаться; во всяком случае, притворяется бесконечной.
Хм… Что бы еще выдумать? Рассказать разве какую-нибудь солдатскую сказку?
Много рождалось их во время переходов, и пользовались они тоже большим и заслуженным успехом, несмотря на то что сюжет их бывал очень небогат своим содержанием, а главную роль играли простонародные выражения, в большинстве забытые и мало кому известные, и воскрешение которых встречалось общим одобрением. Но прибегнуть к этому последнему средству не удалось, так как внезапно появившийся генерал Марков принял организацию дальнейшего развлечения на себя.
– Назар Борисович (полковник Плохинский), ведите роту для охраны железнодорожного переезда!
Это известие обещает, во-первых, возможность часа два просидеть на земле, хотя бы и мокрой, а во-вторых – бесплатно присутствовать на интересном спектакле единоборства орудия капитана Шперлинга или подполковника Миончинского с красным бронепоездом, где победа не оставляет ни малейшего сомнения, а царица полей принимает в нем участие не в качестве страдательного элемента, а в образе восторженного зрителя, награждая аплодисментами окончание каждого раунда, если и не всегда кончающегося нокаутом противника, то неизменно выигрываемого по очкам.
Получив приказание генерала Маркова, рота ускоренным шагом вскоре достигает переезда, не имеющего ни шлагбаума, ни будки сторожа. Линия железной дороги идет по очень невысокой насыпи, уходя в обе стороны в ровную степь насколько видит глаз. Сзади на рысях подходят два орудия и становятся у переезда. Одно из них обращает свое жерло и внимание направо, другое – налево. Рота располагается соответствующим образом, разделяясь на два амфитеатра, в пятидесяти шагах позади каждого орудия. Спектакль обещает разыграться на двух сценах.
В своем законном нетерпении и уже готовые кричать «Время!» и топать о землю ногами, двумя далекими и глухими взрывами, означающими подрыв полотна и заменяющими в данном случае удары гонга, зрители оповещаются о поднятии занавеса и начале представления.
Перед сотнями жадно впившихся глаз медленно открывается наполненная артистами обширная и глубокая сцена. В своей роли первого любовника генерал Марков занимает центр авансцены на самом переезде и, похлопывая нагайкой по голенищу своего сапога, смотрит на проходящие мимо него пехотные части. В глазах идущих людей ясно видна завистливая горечь пасынков судьбы перед облагодетельствованной первой ротой, которая хотя и ощущает некоторую влажность от намокшей земли в противоположной голове части своего тела, но относится к ней стоически и ни за что не согласится уступить свое место.
На втором плане, за дефилирующими по авансцене частями, у молчаливо стоящего орудия суетятся артиллеристы. Один из них, обладающий, по всей вероятности, самым живым и беспокойным характером, влез на телеграфный столб и, не находя иного выхода для своей бурной энергии, рубит провода. В результате этой полезной деятельности они теряют свое горизонтальное положение и свисают к земле длинными и никому не нужными веревками. Однако, не удовлетворенный этим очевидным успехом, артиллерийский наблюдатель самоотверженно усаживается на фарфоровые чашечки столба, мужественно переносящие тяжесть его тела, и, приложив к глазам бинокль и слегка покачиваясь по сторонам, смотрит в невидимую для зрителей даль степи, одновременно создавая в представлении капитана Згривца весьма красочный, но трудно представляемый себе образ «кобеля на гвозде». У находящегося за моей спиной второго орудия тоже наблюдается многообещающее шевеление и еще один «кобель на гвозде».